Однако в немецком народе тем временем зрели силы, способные противостоять реакционному режиму. На политическую сцену выходил новый класс — пролетариат. Восстания ткачей в силезских деревнях Лангенбилау и Петерсвальдау явились первыми провозвестниками приближающейся революции. Политико-экономическое развитие страны создало условия для более успешной борьбы за конституцию.
«Беспокойная совесть» Фридриха Вильгельма IV
Итак, ученый с мировым именем по-прежнему оставался блестящим украшением дома Гогенцоллернов. В 1840 году ему пришлось ехать на коронацию короля в Кенигсберг, в 1842-м — присутствовать на церемонии крещения наследника трона, а три года спустя — сопровождать своего августейшего повелителя в Копенгаген. Он, «Premier Physicien de la Cour», «первый естествоиспытатель двора», как он себя иронически называл, уже перестал быть первым чтецом при новом короле, предпочитавшем писателей-романтиков («единомышленников», как ему казалось) Августа Вильгельма Шлегеля и Людвига Тика или же актера Луиса Шнайдера, а вообще-то он с большим удовольствием слушал анекдоты госпожи фон Лукк. «Когда я ему читаю, он засылает!» — записал Варнхаген в свой дневник тоскливое восклицание Гумбольдта.
Придворная служба по-прежнему угнетала и удручала Гумбольдта. Тем не менее оставлять ее он не собирался. Помимо экономической зависимости и других причин, о которых уже говорилось, существовала, видимо, и еще одна. Варнхаген, хорошо знавший своего друга, писал в 1844 году в дневнике, что двор и свет для Гумбольдта — «это в некотором роде привычное уютное местечко, где в кругу завсегдатаев с удовольствием проводишь вечер за бокалом вина». Двумя годами позднее, 7 апреля 1846 года, сам Гумбольдт писал Гауссу: «Вы спросите, почему я, которому 76 лет, не позабочусь об ином, более приемлемом для себя положении? Проблема человеческой жизни — неразрешимая проблема. Мешает привычный уют, старые обязательства, глупые надежды».
А новый властитель Пруссии поначалу действительно давал ему повод для «глупых надежд». Если на решение внешне- и внутриполитических вопросов Гумбольдт по-прежнему не имел никакого влияния, то в том, что касалось наук и искусств, король к его мнению все же прислушивался. Еще будучи кронпринцем, Фридрих Вильгельм IV поддерживал, например, заботы Гумбольдта о студентах, преследовавшихся по политическим мотивам; в деле «геттингенской семерки» он проявил себя «весьма покладистым и благородным».
Так, Гумбольдту удалось, преодолевая сопротивление министерской бюрократии и самого министра по делам образования и культов Эйххорна, добиться проведения важных мер по развитию научных исследований. Если Фридрих Вильгельм III просто отмахивался от любого совета своего камергера, то его преемник мнение Гумбольдта выслушивал даже тогда, когда тот высказывал его без августейшего соизволения. К тому же старик ученый стал решительнее, чем прежде, излагать свою точку зрения, причем не только одному королю в конфиденциальной обстановке, но и публично. Правда, и теперь, сталкиваясь с трудноразрешимыми проблемами, он по-прежнему уповал на «время», которое принесет с собой все желаемые перемены.
Один из писателей «Молодой Германии», Генрих Лаубе, высланный за свою студенческую деятельность из королевства Саксонского, а в 1834 году схваченный в Берлине и на девять месяцев брошенный в темницу, в своих «Воспоминаниях» дал, думается, довольно точную характеристику отношениям Гумбольдта с Фридрихом Вильгельмом IV: «Положение Гумбольдта рядом с Фридрихом Вильгельмом IV оставалось до самой его смерти очень странным. Его считали либералом [36] Слово «либеральный» в те времена имело очень широкий смысл: им называли любое прогрессивное мировоззрение вообще.
, да он и был им. Категория людей, к которой применимо это слово, была королю неприятна. Он видел в этом легкомысленное веяние века — скорее всего он с радостью избавился бы и от докучавшего ему Гумбольдта. У короля появилась даже склонность посмеиваться над его излишней словоохотливостью. Однако ни то, ни другое у монарха толком не получалось — власть Гумбольдтовых знаний оказывалась слишком велика, как и его общепризнанный авторитет. Сами-то знания уважал и король. Получалось так, что этот камергер Гумбольдт, не имевший больше, собственно, никаких служебных обязанностей и всегда вынужденный быть при короле, выглядел чем-то вроде беспокойной совести самого монарха. При каждой новой репрессии всем интересно было знать мнение Гумбольдта по этому поводу, и он обычно высказывал его в очень лаконичной эпиграмматической форме, в духе многозначных изречений дельфийского оракула — к постоянному раздражению короля, которому эти высказывания обязательно потом передавались».
Читать дальше
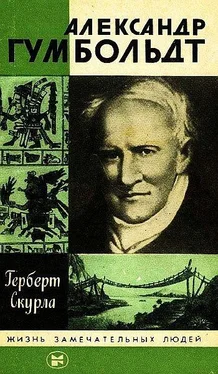

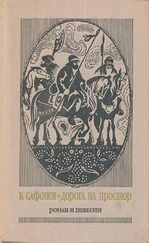



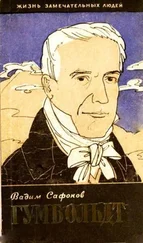



![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/403590/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan-thumb.webp)