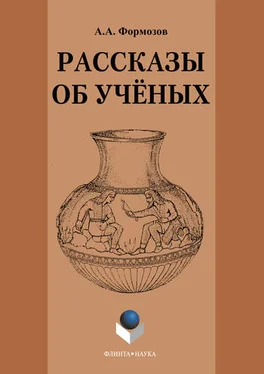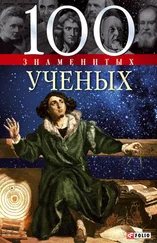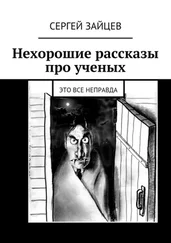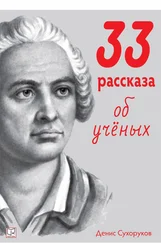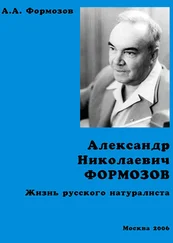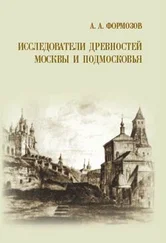Во-вторых, жизненные фигуры и обстоятельства подаются им не одномерно, а стереоскопически, с разных сторон. Его суждения всегда конкретны, избегая крайностей пессимизма и оптимизма. Он отмечает сильные стороны, отдельные достижения даже тех своих персонажей, кои в целом ему крайне несимпатичны. И, напротив, слабости и роковые просчёты тех, кто ему близок по духу. Читателю этой книги ясно, кто из ее персонажей нравится автору, кто не очень, а кто совсем не нравится. И что именно в каждом персонаже нравится, а что не нравится; а что может кому-то не нравиться, но нуждается в понимании времени и места своего проявления.
В-третьих, и это важнее всего, – автор на множестве ситуаций в биографиях целой плеяды наших знаменитых предшественников демонстрирует нам, к каким печальным последствиям приводят в науке двуличие, конформизм, групповщина, даже «просто» душевная слабость. Как хирург невольно причиняет пациенту боль, чтобы спасти его, так и историограф обращает наше внимание на то, чего нам в науке и жизни надо избегать во что бы то ни стало. Как говорится, «на зеркало неча пенять…».
Тревогу за судьбу русской науки сегодня высказывают многие ее представители и наблюдатели-аналитики. Процитирую свежие материалы «круглого стола» «Российская наука и молодежь», проведенного недавно в редакции журнала «Вопросы философии». Вот что заявил там Е.В. Семенов, в недавнем прошлом руководитель Российского гуманитарного научного фонда, а ныне главный редактор журнала «Науковедение», т. е. специалист, знающий наши научные нравы изнутри и в деталях. «Научный социум в современной России остался феодальным организмом. Изменение состоит только в том, что он… одряхлел, обнищал, снизились его этические нормы…Даже те социальные образования в науке, за которые мы хватаемся как утопающий за соломинку, – научные школы – и те, если вдуматься, в значительной степени фикция… административные порождения, которые были возможны при крайней ограниченности мобильности человека именно в условиях железного занавеса, прописки, характеристик с тремя подписями…Не благородные по своей сути, за исключением тех ситуаций, когда, действительно имела место связь типа талантливый ученый и ученики… В них научная активность постепенно угасает и не воспроизводится, поскольку реформа феодального научного социума оказалась невозможна…Современная молодежь в современных условиях в эту реальную науку… не пойдет» [186]. Эти и им подобные инвективы науковедов почти дословно совпадают с оценками и размышлениями автора настоящей книги.
Вдумчивый читатель и этой, и других формозовских книг может составить представление об идеологических установках автора. Отчасти он сам разъясняет их в предисловии. Это идеалы демократии, русский патриотизм (без нередких крайностей, его сопровождающих), открытость к международному сотрудничеству, интеллигентное уважение к ценностям культуры. Мировоззренческая стойкость и ясность убеждений особенно поучительны сегодня, когда имеет место удивительный разброд в политических позициях российских гуманитариев, – от полной апатии в общественных вопросах до крайностей вроде неокоммунизма (И.Я. Фроянов, скажем, и несть числа таких же «заединщиков»), квасного «патриотизма» (А.Н. Сахаров, реанимирующий наивный антинорманизм) или прозападнического либерализма космополитического толка (у нередких среди нас искателей тёплых мест на Западе, долларовых грантов и т. п.).
Уважать авторскую позицию не означает во всём ее разделять. За недавно истекший век обнаружились сильные и слабые стороны не только политического консерватизма (автор не обинуясь именует его черносотенством) да коммунизма, но и несколько аморфной идейной платформы русской интеллигенции неонароднического толка. Едва ли не важнее, что за идеологическими разногласиями стоят люди и обстоятельства их жизни. Автор сам отмечает, что многие «черносотенцы» верно служили Российскому государству, защищали его от внешнего врага. Так, бегло упомянутый автором в заключение очерков Сергей Павлович Толстов (из казачьей семьи) был мобилизован в ополчение, разбитое под Москвой в 1941 году. Он не отступил вместе с большинством обмороженных и безоружных его «бойцов», а, остановив наш артиллерийский расчёт, ударил из пушки по наступавшей немецкой автоколонне; был ранен в этом бою. Осуждая этого археолога за ревностные идеологические проработки коллег по службе в послевоенный период, будем помнить об остальном в его биографии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу