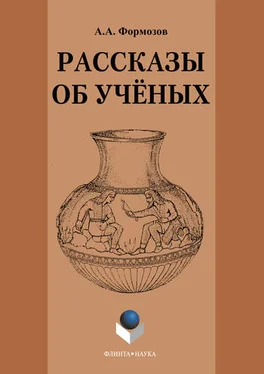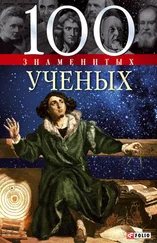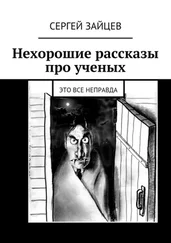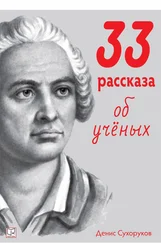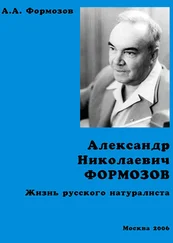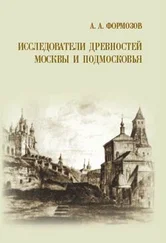А между тем ответить было сравнительно просто. В предисловии к «Запорожской старине» автор с важностью рекомендует книгу читателям как результат семилетних трудов [14]. Значит, он начал ее в 1926 году – в четырнадцатилетнем возрасте. Мало того, что весь сыр-бор загорелся из-за произведения, созданного в период младенчества фольклористики, в дни сказки об Анкудине Сахарова и «Гузлы» Проспера Мериме. Обсуждалось и осуждалось творчество несовершеннолетнего подростка.
Смело мог сказать Срезневский своему главному оппоненту Костомарову: «Врачу, исцелися сам!» Ведь публикация русских песен Саратовской губернии, якобы записанных Николаем Ивановичем в годы ссылки «от холщевика-верхового мужика», оказались при проверке перепечатками из старых сборников с произвольными переделками составителя. На это еще при жизни Срезневского указал П.А. Бессонов [15].
И всё-таки шестидесятилетний академик не нашел в себе сил объяснить, что четырнадцатилетним мальчишкой, в пору, когда фольклористика еще не стала наукой, он сочинил легкомысленную книжку и теперь просит специалистов ею не пользоваться. Вероятно, он думал о том, с каким злорадством встретили бы его покаяние коллеги (а лучше ли они его?), как признание давней ошибки неминуемо сказалось бы на оценке его сегодняшних – методически безукоризненных работ. Сталкиваться и с тем, и с другим предстояло бы до конца дней. По самолюбию первоклассного ученого ежедневно наносились бы удары. И он предпочел отмолчаться. Человеческие слабости возобладали над чувством научного долга.
Вот об этой поучительной истории мне и хотелось напомнить, потому что в той или иной мере сходные нравственные проблемы мучат многих учёных, и наука от этого немало теряет. Но рассказываемая история ещё не исчерпана.
Помимо вреда, нанесённого науке, Срезневский и самому себе изрядно напортил. Может быть, он пострадал даже больше всех. Пусть и с опозданием, но историки и фольклористы разобрались, что к чему, и не пользовались уже сомнительными источниками. Жизнь же Срезневского оказалась отравлена.
Первый симптом того мне видится в неожиданной попытке, бросив фольклор, заняться политэкономией почти сразу же после издания и успеха «Запорожской старины». Попытка не удалась – политэкономические темы в николаевские времена находились под запретом. Должно быть, теми же колебаниями вызвано желание отсрочить выпуск следующих книжек «Запорожской старины». Гоголь дал Срезневскому плохой совет – пренебречь мнением рецензентов. Вернее, совет, пригодный для писателя, а не для учёного. Как ни слабо были развиты гуманитарные знания в 1830-х годах, всё же известный ориенталист О.И. Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» точно определил недостатки «Запорожской старины»: «Автор хочет воссоздать летописи народа, которых не имеет…, и руководствуется своим вкусом в выборе авторитетов…, заставляет говорить местные предания и народные песни… Труд его… не имеет учёной формы» [16]. От составителя сборника Сенковский резонно требовал научного анализа материала, профессиональной критики источников. Но советы запоздали. Издание было уже завершено.
Сознавая его недостатки, вынужденный вернуться к филологии Срезневский в дальнейшем совершенно отошел от фольклористики и обратился к более надежным памятникам древнерусской литературы, зафиксированным письменно, на пергаменте и бумаге, подлинность которых твёрдо доказана. На изыскания фольклористов он смотрел отныне с сугубой подозрительностью. Когда вышел из печати первый том олонецких былин П.Н. Рыбникова, тех самых былин, что входят сейчас в каждую школьную хрестоматию, Срезневский опубликовал крайне кислую рецензию. В ней он упирал на своё «впечатление, ведущее за собой нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительно произведения народные, а не подражания им. Сомнение зарождается и укрепляется тем естественнее, чем менее противопоставлено ему преград, а при издании сборника господина Рыбникова не сделано в этом отношении почти ничего» [17]. Обжегшись на молоке, рецензент дул на воду. В 1866 году он обмолвился в письме к А.А. Котляревскому: «Сержусь на тех, которые в молодости увлекаются так же, как и я увлекался, и будут досадовать на себя, как и я досадовал и досадую на себя. Не могу поправить своего прошлого» [18].
Но так было не только с былинами и думами. Любопытна в этой связи статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука». Писарев, как и Чернышевский, и Добролюбов, слушал лекции Срезневского в Петербургском университете, работал в его семинариях. Измаилу Ивановичу было тогда пятьдесят лет, и он находился в расцвете таланта. Преисполненный отвращения к университетской системе преподавания, беспощадный к профессорам-рутинерам, Писарев не мог не выделить в лучшую сторону Срезневского, фигурирующего в статье под именем Сварожича [19]. И в то же время он почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то червоточину, отражавшиеся на всей деятельности ученого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу