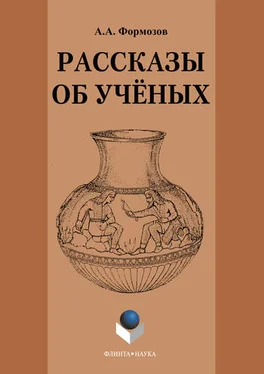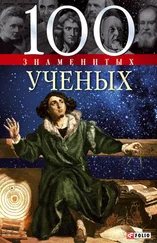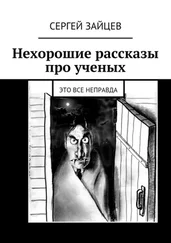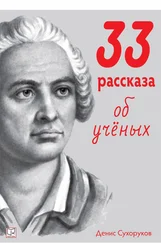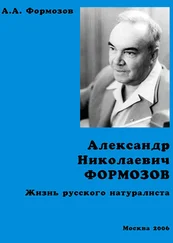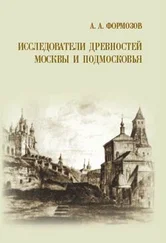* * *
Когда я писал это очерк, мне казалось, что затронутые в нём споры отодвинулись в далёкое прошлое, а страсти, кипевшие вокруг них, давно улеглись. Я ошибался. В 2000 году на «III Зиминских чтениях» в Москве прозвучал доклад историка из Кемерова А.Н. Бачинина «О судейском комплексе С.М. Соловьёва (По его «Запискам»)». Автор – поклонник психоанализа и находит в мемуарах Соловьёва всё, что положено: «психосексуальные комплексы», «заторможенность самоидентификации», «эротическое влечение клиента к патрону С.Г. Строганову» и т. д. Оставим это на совести новоявленного психоаналитика. Важнее другое: для него «Записки» Соловьёва глубоко антипатичны. Он убеждён, что нельзя «копаться в отхожих местах натуры человеческой». Соловьёв, на его взгляд, совершил «моральное предательство» и «оболгал простодушного и ни в чём не повинного Погодина» [93].
Страсти, возбуждённые появлением «Записок» Сергея Михайловича Соловьёва, бушуют по-прежнему.
Загадочный предшественник
В 1952–1956 годах я вёл раскопки палеолитических стоянок в Крыму. Для начала я объехал ранее известные стоянки, чтобы посмотреть, в каких условиях они расположены, какими методами их изучали мои предшественники. Около заплывших землею старых шурфов и раскопов я вспоминал всё прочитанное в Москве о крымском палеолите, об истории его исследования и о самих исследователях. Особенно интересовали меня двое – Константин Сергеевич Мережковский, зачинатель работ по каменному веку Крыма, и Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский, широко развернувший их в послереволюционные годы. Об этих учёных я постарался узнать побольше из книг и расспросов моих коллег. О Бонч-Осмоловском расскажу в другом месте. О Мережковском поговорим здесь.
Это странная, загадочная фигура. Его исследования в Крыму продолжались два полевых сезона – 1879 и 1880 годов, но за этот короткий срок сделано им столько, сколько иные археологи не смогли совершить за всю жизнь. Им открыты палеолит Крыма и Северного Причерноморья вообще, первые ранне-палеолитические и первые же пещерные стоянки в стране.
Проблема раннекаменного века была тогда только что поставлена. В России его выявили всего в трех-четырех точках: в Иркутске у военного госпиталя в 1871 году; в Гонцах на Полтавщине в 1873 году; в Карачарове на Оке в 1877 году. Русские ученые хорошо знали, что во Франции и Испании стойбища охотников на мамонта и северного оленя приурочены в основном к пещерам, и пробовали отыскать аналогичные памятники в наших горных районах. А.С. Уваров предпринял такую попытку и в Крыму, у Ореанды, но ничего кроме средневековых вещей ему не попалось. А Мережковский, прошурфовав за два года тридцать четыре пещеры, в девяти наткнулся на древние культурные слои. В 1934 году, после двенадцатилетних разведок, Бонч-Осмоловский писал, что из осмотренных им и его сотрудниками четырехсот пещер культурные отложения есть в шестнадцати.
Это ещё не всё. До сих пор древнейшими следами обитания человека на полуострове остаются поселения эпохи мустье. Первое из них, в Волчьем гроте на реке Зуе, нашел Мережковский. Вторую стоянку этого времени в России удалось найти через двадцать лет, а третью – через сорок с лишним, уже после революции. О позднем палеолите Крыма мы и сейчас судим по двум пещерам– Сюрень I и Качинский навес, обнаруженным Мережковским. За следующие сто с лишним лет новых памятников этого периода найдено не было. В гротах у Черкез-Кермена и в Сюрени II Мережковский выделил и мезолит. Значит, он установил все этапы местной палеолитической культуры. Побывал он и на всех характерных для неё типах памятников.
Помимо ныне существующих, бывают и погребённые пещеры с обрушившимся сводом, закрытые осыпями и оползнями. И нащупать, и раскапывать их очень трудно. Впервые расчистила от земли обвалившийся навес и извлекла из-под него мустьерские орудия моя экспедиция 1955–1956 годов на реке Альме у села Малиновки (бывшее Кабази). Но пришёл я сюда потому, что на склоне под скалами в этом пункте собирал кремни ещё Мережковский.
Немало в Крыму и стоянок вне пещер, на плоскогорьях (так называемых яйлах). И этот тип поселений отмечен Мережковским неподалёку от Кизил-Кобы. Весьма редки находки кремневых орудий на побережье, но он разыскал и такой памятник – у Замрука в Западном Крыму. До 1957 года, когда из обреза морского берега у Судака был вынут мустьерский остроконечник, подобные находки не повторялись.
В целом объём работ, проведённых в 1879–1880 годах, поразителен, в особенности, если учесть, что руководитель экспедиции не имел никакого предшествующего опыта – ни своего, ни чужого. При этом полевыми наблюдениями он не ограничивался, а стремился ответить на важные исторические вопросы. В те годы в научной литературе обсуждалась проблема хиатуса – разрыва, тёмной эпохи, разделяющей палеолит и неолит. Мережковский показал, что разрыва в действительности нет, он заполняется микролитическими культурами, вроде найденных у Кизил-Кобы. Позднейшие исследования подтвердили этот вывод.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу