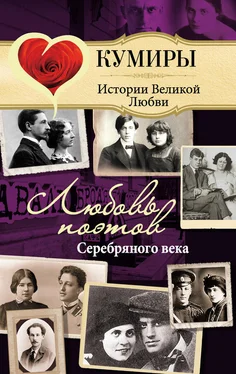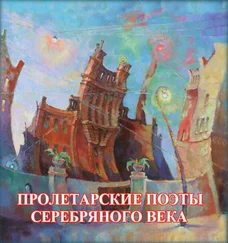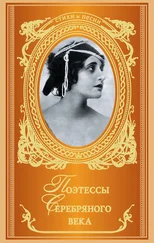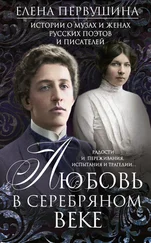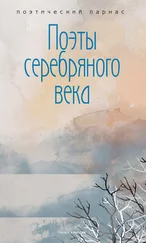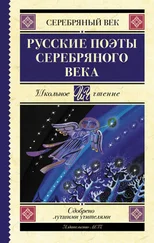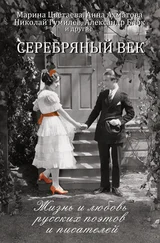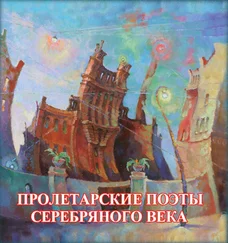Вначале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла его в Петербург, где он в качестве пансионера продолжил учение в местной гимназии. Но когда его «за двойку по алгебре» исключили из гимназии, он фактически оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на письма блудного сына с мольбами о помощи.
Дальнейший поворот событий трудно, пожалуй, назвать другим словом, как чудо. Узнав по чистой случайности о судьбе несчастного юноши, брошенного семьей, начинающий журналист Александр Яблоновский поведал о его горестной участи на страницах «Сына отечества» – одной из крупнейших газет того времени. Статья попала на глаза житомирскому чиновнику К. К. Роше, и тот решил взять его к себе в дом. Так Саша Чёрный в конце 1898 года очутился в Житомире – городе, ставшем для него поистине второй родиной. Гимназию в Житомире не удалось закончить из-за конфликта с директором. Да, по правде сказать, и поздно было учиться – подоспело время призыва на воинскую службу. Отслужив два года в качестве вольноопределяющегося, Саша Чёрный оказывается в местечке Новоселицы на границе с Австро-Венгрией, где поступает на службу в местную таможню. В какой-то момент, обуреваемый честолюбивыми мечтами, он решает перебраться в Петербург.
Поначалу новоиспеченному петербуржцу пришлось заняться канцелярской работой – на службе сборов Варшавской железной дороги. И хотя на первых порах его приютили родственники хороших знакомых, неуютно и одиноко чувствовал себя провинциал в Северной столице. Его непосредственной начальницей на службе была Мария Ивановна Васильева, которая проявила к нему участие. Вскоре они связали свои судьбы узами брака. Союз оказался прочным, несмотря на разницу в возрасте (Мария Ивановна была старше на несколько лет), в положении и образовании: она была ученицей видного профессора философии А. И. Введенского и родственницей известных купцов Елисеевых.
Свадебное путешествие летом 1905 года молодожены провели в Италии. По возвращении Саша Чёрный решает оставить ненавистную конторскую службу, дабы целиком отдаться литературной деятельности и образованию. В 1906 – 1907 годах он прослушал курс лекций в Гейдельбергском университете.
В своей работе о Саше Чёрном Николай Станюкович писал о том, что «популярность писателей-юмористов кратковременна, их книги редко переживают их авторов… Писателей-юмористов немного. Дар подмечать смешные стороны жизни, способность заразительного смеха, не переходящего в досужее зубоскальство (зачастую выдаваемое за юмор), – драгоценнейшее качество, а когда оно усилено доброжелательством, любовью к миру – человеку, ребенку, животному – и освещено ясным разумом, то между писателем и читателем дружественная близость и понимание возникают, как говорится, „с полуслова“. Всем этим Саша Чёрный обладал преизбыточно, и его любили…»
Во время Первой мировой войны Александр Михайлович был прикомандирован к большому военному лазарету. Он должен был вести списки раненых, писать для них письма в деревню и… извещать семьи о смертях.
Таким образом, ему пришлось близко соприкоснуться с русским солдатом, притом с солдатом страдающим, одиноким на своей койке, жаждущим раскрыть душу, а иногда, накануне смерти, и высказать себя до конца; а если выздоравливает, то и покалякать в вечерний час: рассказать ласковому лазаретному чиновнику были и небылицы, эпизоды военной жизни, приправленные фантазией.
Об эмигрантских днях жизни Саши Чёрного вспоминал Николай Станюкович, рассказывая о том, как в 1929 году ему впервые удалось вырваться из парижских рабочих будней и провести счастливый месяц в Ментоне:
«Поезд трогается, но еще долго слышится возня, чмоканье откупориваемых бутылок, и ветерок – все окна и двери открыты настежь – доносит кисловатый запашок „пинара“… Жена выходит в коридор, чтобы еще раз насладиться то появляющимся, то исчезающим морским простором. „Ты знаешь, – говорит она, вернувшись, в радостном волнении, – в матросском купе, в уголке сидит, совсем задавленный, Саша Чёрный. Зови его сюда, на свободное место“.
Что-то необыкновенно милое, чистое было в этом сохранившем молодость лице, увенчанном облаком легких, курчавившихся, совершенно седых волос, еще резче выделявших черноту бровей и короткой ниточки усов. „Вы – Саша Чёрный? Пойдемте, у нас есть место…“ Со вздохом облегчения, но без всякого удивления Саша Чёрный, захватив свой небольшой, поношенный, но добротный чемоданчик русской работы, последовал за мною. В Париж мы приехали уже друзьями и в немногие оставшиеся ему годы проводили каникулы вместе, в благословенном Фавьере, обратившемся после войны в шумный курортный поселок, а тогда состоявшем из немногих русских дачек, под соснами у моря, на великолепном песчаном пляже которого собирались и разбредались вдоль берега десятка два-три русских фигур – подлинное раздолье!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу