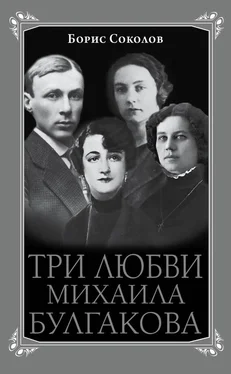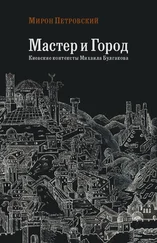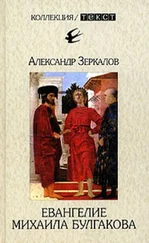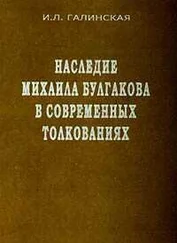Михаил Афанасьевич, также незадолго до смерти, говорил своему другу Сергею Ермолинскому, что он – не мистик и не теософ. Потому-то Булгаков к тому же Зубакину и прочим мистикам относился с иронией и насмешкой, тогда как супруги Брусиловы, будучи теософами, профессора черной магии воспринимали всерьез и верили в оберегающую силу икон.
С.А. Ермолинский вспоминал, что почти до самого конца Булгаков не терял присутствия духа и природного веселья: «Вокруг его дома штормило. Но все равно, уверяю вас, это был жизнерадостный, веселый дом!.. Да, да, это был веселый, жизнерадостный дом! Говорили, это оттого, что у Булгакова было повышенное «чувство театра». Нет, никакого «театра» в его поведении не было. Это был его характер. В передней над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой: «Водка яд – сберкасса друг». А на столе уже все было приготовлено – чтобы и выпить, и закусить, и обменяться сюжетами на злободневные темы. Слетала всякая душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день, и всегда получалось весело».
Подкосила Булгакова неудача с пьесой о Сталине «Батум». Но начиналось все очень хорошо. Е.С. Булгакова отметила в дневнике 11 июня 1939 года: «Пришла домой. Борис Эрдман сидит с Мишей, а потом подошел и Николай Робертович. Миша прочитал им три картины и рассказал всю пьесу («Батум». – Б. С.). Они считают, что – удача грандиозная. Нравится форма вещи, нравится роль героя. Николай Робертович подписал, наконец, договор на свой киносценарий. Борис очень доволен своей работой над 1812 годом. Мы сидели на балконе и мечтали, что сейчас приблизилась полоса везения нашей маленькой компании». Е.С. Булгакова. Запись в дневнике 3 июля 1939 года: «Вчера утром телефонный звонок Хмелева – просит послушать пьесу. Тон повышенный, радостный, наконец опять пьеса М.А. в Театре! И так далее. Вечером у нас Хмелев, Калишьян, Ольга. Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХТ, о системе. Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу».
Все пьесу хвалили, да и кто бы рискнул ее ругать? Е.С. Булгакова писала своей свекрови 11 августа 1939 года: «Мамочка, дорогая, давно уже собиралась написать тебе, но занята была безумно. Миша закончил и сдал МХАТу пьесу… Устал он дьявольски, работа была напряженная, надо было сдать ее к сроку. Но усталость хорошая – работа была страшно интересная. По общим отзывам, это большая удача. Было несколько чтений – два официальных и другие – у нас на квартире, и всегда большой успех».
Слухи о «Батуме» широко распространялись по Москве, что чету Булгаковых отнюдь не радовало – частью из-за суеверности, частью из-за того, что содержание пьесы в искаженном виде может прежде времени достичь верхов, не исключая и Сталина. 11 августа 1939 года Елена Сергеевна записала: «Вечером звонок – завлит Воронежского театра – просит пьесу – «ее безумно расхваливал Афиногенов». Сегодня встретила одного знакомого, то же самое – «слышал, что М.А. написал изумительную пьесу». Слышал не в Москве, а где-то на юге. Забавный случай: Бюро заказов Елисеева. То же сообщение – Фани Николаевна. – А кто вам сказал? – Яков Данилыч (Розенталь. – Б. С.). Говорил, что потрясающая пьеса. Яков Данилович – главный заведующий рестораном в Жургазе. Слышал он, конечно, от посетителей. Но уж очень забавно: заведующий рестораном заказывает в гастрономе продукты – и тут же разговоры о пьесе, да так, как будто сам он лично слышал ее».
Ермолинский вспоминал, что Булгаков заболел вскоре после запрета «Батума». Сергей Александрович именно с этим фактом связывал смертельное заболевание драматурга: «В Москве они не получили никакого официального разъяснения. Шептались, недоумевали, но ясно было одно, что дело решилось «на самом верху», стало быть, ни о каких запросах не могло быть и речи.
Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:
– Ты помнишь, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», отклонили рукопись о Мольере? И ты помнишь, как ни тяжело было все это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри – я лежу перед тобой продырявленный…
Я хорошо запомнил это странноватое слово – продырявленный. Но я понял, о чем он говорит.
Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно же если было связано с расчетом – корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу