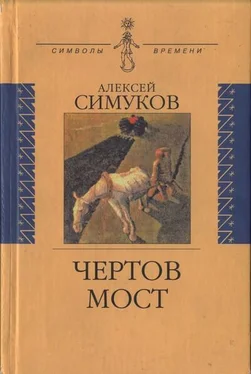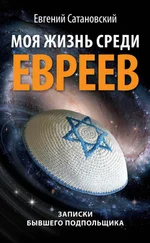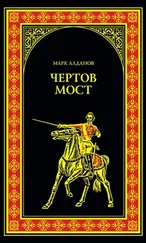У меня хранится аттестат отца об окончании Дмитрием Андреевичем Симуковым Санкт-Петербургского Императорского университета, где показаны его успехи: в философии, русской истории, всеобщей истории, общем языкознании, древнегреческой литературе, истории церкви, богословии, немецком языке — отличные; в латинском языке, древней истории, римской литературе — хорошие; и в древнегреческом языке — достаточные. За эти успехи историко-филологический факультет, по представлении диссертации, признал его достойным ученой степени Кандидата: «Посему предоставляются Симукову все права и преимущества со степенью Кандидата соединяемые»…
А Российская империя свои законы знала. Звание Кандидата выводило из податного сословия, уравнивало в правах с имеющими личное дворянство… И Кандидата уже не могли по приговору волостного суда высечь в волостном правлении… Вот так-то. Документ этот отпечатан на пергаменте. Известно, что он несгораем — обугливается, но не горит. Вот таким несгораемым свидетельством снабдил Императорский университет моего отца и пустил в жизнь. Почему он пошел не по историко-филологической части, а ударился в финансы — не знаю…
Я хорошо помню 25-летний юбилей служения отца. На большом листе бумаги я нарисовал молодого человека, восходящего по ступеням служебной лестницы, и дополнил рисунок своими же стихами. Я помню только начало: «Лет двадцать пять прошло с тех пор, когда вошел ты в этот двор». Папа был горд и счастлив. Он показывал мое произведение гостям, и они меня хвалили. В тот же день произошел и эпизод, который в семье всегда вспоминали с улыбкой. Когда-то папа оказал услугу нашей родственнице, тете Соне Бевад, устроив ее на службу. Воспользовавшись юбилеем, она приготовила ему какой-то подарок и, позвонив с черного входа, хотела передать этот подарок прислуге, чтобы та отнесла его папе, а сама она намеревалась тут же скрыться — из деликатности. Но папа, по обыкновению по праздникам, выгонял нашу Катю из кухни и готовил сам. Позвонили с черного хода, он открыл… Вся затея тети Сони лопнула.
В деревне, до революции, популярность папы был очень велика. Огромная округа гордилась им: как же, свой, деревенский — и в таких чинах, в самом Петербурге!
Моя квартирная хозяйка, когда я учительствовал в Бороньках, простая, неграмотная баба, говорила мне:
— Кажуть, ваш папочка был большей начальник! — И прибавляла, со значением: — Кажуть, йон был старшей городовой!
Признаться, я тогда даже опешил. Городовой! Ничего себе понятие о рангах.
И вот — все оборвалось.
По приезде в деревню папе дали возможность работать в местном сельпо — счетоводом. Но падение его окружающими было встречено без особой деликатности. Исполин, которому поклонялись, когда он был далеко — тут, на глазах, представитель разбитой империи и, может быть, виновник ее падения — это деревенским жителям трудно было перенести. Но бедный папа нес свой крест. А тут еще ревизия, какая-то недостача…
Нет, наши деревенские «аристократы» не облегчили ему жизнь. Другой на его месте попросту бы спился. Но папа вел себя благородно до последней минуты, хотя теперь я понимаю, чего это ему стоило. А тут еще я — подросший юнец, глухой к страданиям, казалось бы, самого близкого ему человека. И последний удар — кража золотых часов, больших, с крышками, наша надежда и упование. Каждый соединял с ними свое самое заветное. Я, например, мечтал о сказочном коне. И вдруг все кончилось. Кто это сделал — до сих пор неизвестно. Были какие-то подозрения, но никто ничего не раскрыл. После кражи денег в Петербурге перед нашим отъездом в Сигеевку, история с часами была вторым ударом. И папа его не вынес. Тяжелое настроение усугублялось еще и наметившимся конфликтом со мной. Папа отсутствовал в то время, когда я набирал силу как молодой хозяин, отвечавший за свое дело. Папа считал меня еще мальчиком, ребенком, а я уже им не был. Возникали непонимание, тяжелые, безобразные сцены. А тут еще болезнь, быстро прогрессировавшая… Нет, трудно вспоминать, я не представляю, что творилось на душе у моего отца. Все, все было растоптано, никакой надежды… И вот, где-то в январе 1922 года, когда я учился в городе Сураже в школе, во 2-й ступени, пришло известие — скончался папа. Помню день, когда на нашей серой кобыле («святой», как я ее всегда называл) я ехал из Суража домой. Шел зимний дождь, случающийся в оттепель. Я промокло нитки. Погонять лошадь не имело смысла. Всю дорогу — восемнадцать верст — я ехал шагом.
Читать дальше