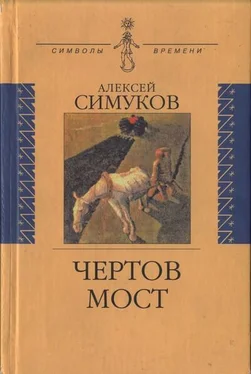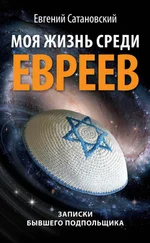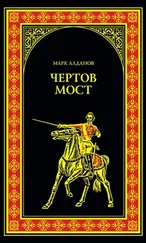Пьесу я получил, прочитал ее студентам к их общему восторгу и, говоря о жанрах, мы приступили к обсуждению жанра Комедии. Автор, пишущий комедию, — всемогущ! — был общий отклик. Превратить в блестящий комедийный материал заурядную уголовщину — это поразительно! — говорили другие. А что такое Комедия вообще? Как ответить? — вопрошали третьи. Но тут меня ждал неожиданный удар.
— А вы знаете, что Чехов назвал свою «Чайку» и «Вишневый сад» — комедиями? — сказал один студент.
Я как-то никогда не обращал внимания на подзаголовки этих пьес и был растерян. Как объяснить студентам, почему великий писатель прихотливо отнес к такому, казалось бы, неподходящему жанру свои великие пьесы? А вот взял и отнес! Надо подумать, может быть, тут замешан этот проклятый подтекст, которым мучают нашего брата, драматурга, ревнители большой литературы? Помните — люди ходят, разговаривают, пьют чай, и в это время разрываются их сердца… Может быть, Чехов считал все, изображенное им в этих пьесах, комедией жизни?
Насчет подтекста я поделился со студентами своим разговором с К. Чуковским, когда говорил, что подтекст у Репина, скажем, слабоват. Ну, что такое, к примеру, «Запорожцы»? Для меня, например, его портрет дочери Драгомирова [143] М. И. Драгомиров (1830–1905), русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Государственного совета.
в украинском костюме несет гораздо больше этого второго смысла, чем пусть гениальное, но плоскостное изображение смеха!
Мнения у нас со студентами раскололись, но обсуждение комедии и комического продолжалось с удвоенной силой.
Размышляя над проблемами комедии как жанра, я прихожу к убеждению, что в этом случае художник решительно порывает с обычными ощущениями, порождаемыми процессом познавания жизни, и переходит в иную область, где властвуют представления, воображение, ассоциации, хоть и основанные на реальной жизни, но уже резко окрашенные субъективными размышлениями о ней автора.
Эти отвлеченные понятия можно представить себе в виде стены. Предположим, человек стоит возле стены, лицом к ней. Он видит перед собой ее участок — настолько, насколько его может охватить глаз. Участок этот им хорошо изучен. Все трещины, все малейшие детали он хорошо знает, стена есть его объективный мир, и сознание этой объективности придает и ему самому твердое убеждение в его собственной принадлежности к этому миру, пусть подчиненному — по отношению к стене, но ясному.
А попробуйте отвернуться от стены. Стать спиной к ней. Сразу же перед вами открывается огромный мир, настолько большой, что вы его даже не в силах весь окинуть своим взглядом. И… как следствие этого, вы — ничто перед ним! Да-да — ничто! И если силой своего воображения вы не заставите себя стать в центре этого мира — плохи ваши дела. Вы должны это сделать, иначе вы растворитесь в этом мире, не сможете передать другим его масштабы, его очарование. Только заняв в нем доминирующее положение, вы сможете завладеть миром, диктовать этому новому для вас пространству свои законы, свои условия.
Там, за спиной, вы оставили жизнь, которую можно было видеть вплотную, осязать, нюхать, даже лизнуть, чтобы определить, какой она имеет вкус, — она существует помимо вас. Здесь вы сможете ее воспринять, только пустив в ход ваше воображение, ваше представление о ней, неразделимое с ощущением себя в этом мире.
Короче, мы от конкретной практики переходим в мир субъективный, зависящий от того, как он будет нами представлен, как будет изображен. Это — область нашего представления о жизни, нечто новое для нас, требующее иных способов ее познания, иных жанров.
Приведу пример: к моему больному сыну ходила массажистка. Все, что было связано с моей жизнью, с ним, с ней, было миром стены, к которой я стоял лицом, — обычным, знакомым мне миром… Но как-то, кончив сеанс, массажистка вздохнула и сказала: «Бегу к своему генералу, им всем велено похудеть». И я живо представил себе ее пациента, его старание ответить на начальственное требование «верхов», и вдруг, незаметно для себя, «стена» осталась у меня за спиною, я увидел все это так ясно, так ярко — и это уже был новый мир, мир моего воображения. Я находился в центре его, распоряжался увиденными мною персонажами, действовал вместе с ними… И сам собой сложился сюжет моей комедии «Папе надо похудеть», или «Не щадя живота», о которой я рассказывал.
Комедия — необозримое поле для выдумки, острой мысли, всяческого изобретательства, задора. И, как ни странно, жанр, не любимый ни театральным начальством, ни режиссерами. И, может быть, даже актерами. Любит комедию только зритель. Ведь комедия ничего ни режиссеру, ни начальству не дает, от нее одно беспокойство. А зритель… Ах, как зритель любит комедию, как он отвечает благодарным смехом на все ее перипетии.
Читать дальше