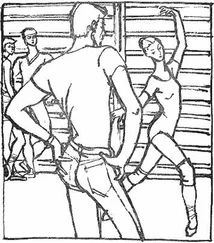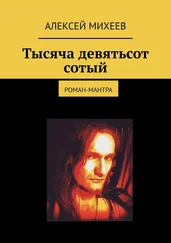Проходила мимо дома № 9 на Литейном, дом Альки Бернштама. Могла встретить его. Но тогда не встретила… (А девчонку с рекламы и тот, взрезанный сверху донизу дом, угол улицы Пестеля, он тоже запомнил на всю жизнь: каждый день мимо него ходил зимой 41-го — 42-го).
Очень трудно и холодно было идти через Литейный мост — здесь всегда ветер, а тут еще и мороз. Видела вмерзшие в лед подводные лодки. Темные полыньи, к которым тянулись по тропинкам люди с бидонами и ведрами… Устала очень, но успела к обеденному перерыву. К столовой Академии уже строем подходили курсанты, и я, в группе женщин, стояла возле дверей, высматривая своих. Окоченела совсем, а их все нет и нет. И тут вдруг окликают меня, смотрю — Генка Соболев! Оказывается, первокурсники теперь в другое здание переведены и я напрасно жду их здесь. А он вот еще не уехал, их буквально на днях должны эвакуировать в Самарканд. Он уже пообедал и очень сокрушался, что не знал обо мне и ничего мне не принес. Передала я ему папиросы: одну коробку ему, а другую — ребятам. Отказывался себе оставлять, да я уговорила. Обещал сегодня же найти моих первокурсников. Пошел провожать меня и рассказал: вчерашней ночью, когда вернулся после дежурства в общежитие, увидел, что угол здания срезан снарядом и их комната — тоже. Погиб его друг, музыкант. Раскапывали весь день и нашли только голову его. А потом — флейту… Рассказывал, и все снимал и протирал очки. Потрясла его эта смерть, видать, до основания. Хорошо, что я пришла и он смог хоть выговориться. Проводил до моста. Обещал непременно писать, как только они доберутся до Самарканда. Взял с меня слово, что я сразу же сообщу ему туда, если у меня изменится адрес. Я обещала. Как вернулась домой — не помню.
У меня стало много свободного времени. Занятия в институте прекратились после того декабрьского обстрела. Перестала ходить и к Алексею — он находился в больнице с каким-то психастеническим синдромом (я пару раз была у него, и он показался мне вполне нормальным, только очень раздраженным и злым). Конечно, обязанности у меня оставались — одни очереди за хлебом сколько времени и сил отнимали. Иногда очередь выстраивалась с вечера, и тогда приходилось отмечаться по номерам, которые писали на ладонях (помню, как у меня однажды был 273 номер). Моим делом было и обеспечение дровами — колола на маленькие чурочки старые стулья, ящики кухонных столов. Потом и до них самих дошла очередь. Бабушка умела очень экономно разжигать и поддерживать огонь в печурке. Пили кипяток с четвертушкой подсушенного хлеба от своих трехсот грамм (это с Нового года). Мама уходила на работу, а я выносила ведра из туалета (выливали их во дворе, возле помойки. И эта смерзшаяся горка расползалась все шире и шире. И весной должна была растаять). Потом ездила с саночками на четвертую Красноармейскую за водой — там был водопроводный кран. Привозила по половинке ведра или в бидоне, иначе не донести по лестнице на наш четвертый этаж. Очень хотелось все время спать, но знала, что это опасно. Некоторые так и не выходили из дремотного состояния. Заставляла себя больше двигаться, хотя частенько отекали ноги и становились как ватные. Оставаться на весь день в темной комнате с бабушкой (она много спала) было тяжко тоже, и я в те дни нередко ходила с мамой в институт, помогать ей упаковывать книги — институт готовился к эвакуации.
В начале января вдруг приехал на два дня с фронта папа. Его часть находилась под Волховом. Ничего не помню толком — сплошное какое-то лихорадочное состояние. Много и громко разговариваем, пьем чай с сахаром и сухарями (папа привез полнаволочки). Нагрели докрасна печурку — папа расколол кухонную дверь, и мы не экономим топливо. Вздумали вдруг передвигать мебель (чтоб заслониться шкафом от окон — дует очень), и хотя, конечно, все делал папа, а мы только суетились вокруг, но страшно устали и будто опьянели от сытости и радости. Папа не ожидал, что жизнь в Ленинграде дошла до такого уровня, когда и жизнью-то ее трудно назвать. Разумеется, он слышал о том, что совсем плохо, но не представлял себе, пока не увидел собственными глазами. Очень расстроился тем, что мы так изменились, тем, как мало у нас сил, и ругал себя за то, что не привез муки, крупы. Говорил, что на улицах города страшнее, чем на фронте — там у них окопы, землянки, а тут от снарядов никакой защиты. И в бомбоубежище не спасешься — еще большая угроза быть погребенным под развалинами. Слушали его и уверяли, что мы ко всему привыкли и нам ничего не страшно. Советовал все же подумать об эвакуации. Мы ни в какую, мол, теперь и бомбят меньше, и хлеба вот рабочим до 300 грамм прибавили, а служащим — 200. Да еще сухари, которые он привез! Теперь бы только до весны дотянуть. И еще: если бы мне на работу устроиться, а то у меня пока еще карточка служащая, как у студентки, но ведь институт закрыли и в следующий месяц получу иждивенческую.
Читать дальше