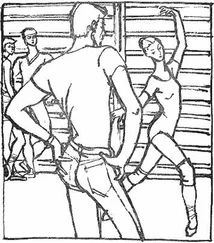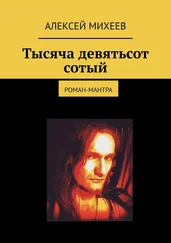За август положение ухудшилось. Сдали Лугу. Оставлена Мга и прекратилось железнодорожное сообщение. В газетах обращение Жданова и Ворошилова к ленинградцам: «Суровая опасность над городом». Снизили нормы хлеба (служащим — 400 г, детям и иждивенцам — 300). Я уволилась с завода, т. к. получила вызов из института. Но занятий пока нет — все на оборонных работах. Я сначала рыла окопы вместе со студентами Авиационного института и помогала в перевозке имущества института в новое помещение, на пр. Майорова (Международный, возле Средней Рогатки, где старое здание, сильно бомбят). А потом попросила разрешения работать на участке, где мамин театральный институт копает противотанковые рвы (это в районе Пискаревки, ездим туда на трамвае, до кольца). Ребята веселые, много шутят (один нашел череп лошади и читал монолог Гамлета). Хорошо поют свои студенческие песни. Но и работают тоже здорово. Стараюсь не отставать, и на руках у меня мозоли не сходят. Среди первокурсников увидела Юрочку Хочинского. Он явно дружит с одной девчонкой — Люсей, и я через нее познакомилась с ним, сказала, что видела их троицу, когда они дали на школьном вечере в прошлом году. Он рассказал, что почти все ребята их класса, ушедшие на фронт, погибли — их отправили в бой без винтовок (надо добыть себе оружие в бою…). Алька Бернштам контужен был так, что потерял на несколько дней речь и зрение. Сейчас его выписали из госпиталя и вроде уже лучше, но дали белый билет.
Поссорилась с Костей и, видимо, теперь навсегда. После последней ссоры мы помирились. Но он зашел вчера, а я спала после смены. Хотел оставить записку, и бабушка сказала, чтоб взял бумагу на письменном столе. А там среди тетрадей он обратил внимание на эту, толстую. Наверное, открыл, прочитал что-то про себя и решил, что имеет право читать все. Взял тетрадь домой, а мне оставил записку, чтоб «не беспокоилась». Возмутилась я страшно — ведь это все равно, как письма чужие прочитать! А сейчас пришла с работы — тетрадь на месте и в ней письмо. Пишет, что после того, что он прочитал, и вообще узнал «некоторые детали» моего истинного отношения к нему, он считает, что нам лучше не встречаться. Не знаю, может он и прав. Но моя обида на него ничуть не меньше, чем его — на меня.
Продолжаю 14 сентября. На оборонные работы ездим с мамой по-прежнему с театральным институтом. Рвы огромные, в четыре метра глубиной. Неужели здесь могут появиться немецкие танки?! Отсюда очень страшно смотреть, как летят на город бомбардировщики, как «ястребки» отгоняют их, как вспыхивают залпы и облачка дыма от зенитных орудий и как один за другим появляются пожары. Смотришь — и бессилен помочь, и не знаешь — цел ли твой дом, твои близкие… Хорошо, что хоть мы с мамой тут вместе.
По окончании смены (чередуемся то в день, то в ночь) устаем так, что в трамвае спим даже стоя. Дорога длинная — больше полутора часов, а если застанет тревога, приходится выходить и прятаться в подъездах домов или в щелях. Тревоги теперь бесконечны и по нескольку раз в сутки. Больше всего мечтаю выспаться. И об еде мысли лезут в голову (чтоб досыта). Еще раз снизили нормы хлеба — служащим 300 г, детям 300, иждивенцам — 250. Какие длинные очереди в булочных и как медленно они двигаются! Ведь каждый паек отвешивают с аптекарской точностью, а возле прилавка все молча следят за стрелкой весов… Мы с мамой берем с собой на работу мешок и, прежде чем ехать с окопов домой, ходим по полю и ищем остатки капустных листьев или невыкопанную картошку. Но так делают многие, и ходить приходится все дальше и дальше. Из этих темно-зеленых, с гнилью, листьев варим горькие щи (раньше такая «хряпа» шла только на корм скоту). Жалеем, что совсем не запасли крупы или муки. Осталась в буфете случайно банка крахмала да пучок сухих листьев петрушки — вот и заправляем теперь щи ложечкой крахмала и щепоткой этой пахучей травки. Выдали по 200 г постного масла — мама добавляет в тарелку и немножко масла. Получается что-то вроде клееобразной похлебки. Если хорошо посолить и горячая, то даже насыщает. Вот если б хлеба побольше… Но хлеб сушим сухариками и сосем (как конфеты), когда пьем чай утром и вечером — так на дольше хватает. Бабушка с Николаем питаются теперь снова вместе с нами, но хлеб выкупают по карточкам отдельно. Как-то очень стыдно, что ее паек на 50 г меньше, чем у нас с мамой. Но, правда, у Николая рабочая карточка и вместе получается одинаково с нами.
Когда мама дежурит в институте, то ночует там, в бомбоубежище, и я тогда еду ночевать к ней. Беру с собой рюкзак (в нем карточки, документы, самое необходимое из одежды на случай, если вернемся, а дома нет — так теперь все делают). А все остальные нужные вещи — белье, обувь зимнюю, которую еще не носим, даже кое-что из посуды — все, что может понадобиться на случай, если останемся бездомными, — запаковали в мешки, подписали фамилии свои, и лежат эти тючки в углу. Если дом рухнет, то такие узлы легче откопать под развалинами. (Конечно, при условии, что будет кому раскапывать…) В бомбоубежище Театрального института (он находится в старинном особняке на Моховой улице) живут сейчас многие студенты и преподаватели, как в общежитии. И в свободные часы между работой и тревогами там идут занятия. (В моем авиационном институте занятия начнутся в октябре). В одном углу на койках сидят «театроведы» и им что-то из истории шекспировской драматургии рассказывают, в другом — «режиссеры» обсуждают постановку своего будущего спектакля, в третьем — о системе Станиславского с «актерами» речь идет или даже сценки разные репетируют. Меня здесь уже за свою принимают, и я помогала в подготовке костюмов для одной концертной бригады, которая готовила программу для выступления в госпитале (ох, сколько уже раненых! Почти все школы, дома культуры, детские сады превращены в госпитали).
Читать дальше