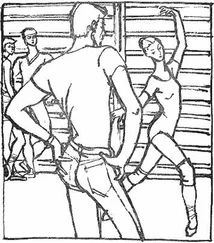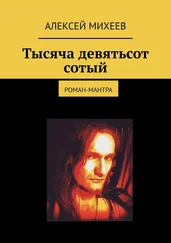Внезапно рассказ о кошках прерывается. Смотрит куда-то вдаль, долго молчит, бровь над правым глазом ползет вверх и там застывает. И вот уже совсем другое лицо, и почему-то он кажется мне в этот момент похожим на какой-то портрет эпохи Возрождения: руки вцепились в резные подлокотники, голова запрокинута и четко вырисовывается на фоне темной спинки, а глаз, вприщур, пристально вглядывается куда-то «за рамки картины». И говорит вдруг задумчиво, будто прислушиваясь к чему-то в себе: «А во втором акте, где на улице действие (и я понимаю, что он опять перенесся в спектакль «Барабанщица»), у меня так задумано было: стена какого-то обрушившегося городского дома. Одна стена, только окна насквозь, в небо. А на стене щит рекламы довоенной — огромное улыбающееся лицо девочки и всё как в оспинах — пули и шрапнель его изранили. И на щеке, как клок вырван, — кирпич виднеется. Как рана. Или кровавые слезы. И подо всем надпись: «Я ем повидло и джем». Долго молчит. Потом: «Такого много в Ленинграде, во время блокады видел». (Я помню эту рекламу — это было на Литейном).
Немного погодя с увлечением рассказывает: «Уже много лет у меня в голове замысел оформления «Снегурочки» сидит». И уже весь светится: «Представляете, все порталы, падуги сплетены из бересты! Она розоватая весной бывает. И вот, как плетенку из широких полос сплести, чтобы там и розоватые проходили полосы, и белые с прочернью. И фактуру, из чего можно имитировать, знаю: надо детскую клеенку взять, нарезать и плести. Она мягкая, шелковистая. Как откроется занавес, а там все в бересте. Сразу свежестью такой пахнет. А на этом фоне уже можно любую декорацию заряжать — все равно основное уже сказано».
Заходит разговор о новом спектакле по пьесе Веры Пановой «Белые ночи», оформление которого недавно закончил Василий Юрьевич. «Очень пьеса понравилась. Но когда читал, мешало, что всё в комнатах да в кафе действие. И вот подумал: как бы вывести из стен этих? Ведь белая ночь вокруг, Ленинград. И нашел — не надо стен! Сделаю только задник, на который светом спроецируем небо ленинградское: в одной картине от лимонно-желтого до сиреневой дымки, в другой — жемчужно розовое, потом дождь весенний, прозрачно-зеленоватые струи хлещут. А на фоне этом — контуры бесконечных решеток и оград ленинградских: то Летнего сада, то Зимней канавки, то мостиков разных. Чтоб они тоже жемчужно прозрачные появлялись и таяли… А на первом плане то, что по действию нужно: скамейка, будка телефонная, мебель. И никаких стен! Вокруг Ленинград дышит и белая ночь…».
— Именно так и удалось Вам осуществить все это в спектакле! — не выдерживаю я. — Ведь именно белая ночь заполонила в нем все!.
— Да что там! Это десятая часть того, что было задумано, — машет он рукой и сразу весь тухнет как-то, — давайте больше не говорить о театре!
Меняем тему разговора. В это время раздаются оглушительные аплодисменты и рев зрительного зала — это Люба включила приемник, транслируют спектакль театра миниатюр Аркадия Райкина. В. Ю. взрывается, несется в детскую и сбавляет звук до минимума.
— Но так совсем неинтересно слушать! — вскрикивает Люба и опять выворачивает на полную громкость.
Разыгрывается бурная сцена. Голос Райкина несколько раз то взлетает над спорящими, то падает до шепота, и, наконец, когда отец с дочкой (оба одинаково упрямые, как два козлика, столкнувшиеся лбами) сходятся на каком-то среднем уровне звучания, диктор объявляет: «Передача окончена». Любка оскорблена в лучших чувствах и плачет злыми слезами. В. Ю. выбегает из ее комнаты, хлопнув дверью (точно так, как полчаса назад хлопала дверью Люба), усаживается в кресло и пытается восстановить прерванную беседу. Но через минуту опять идет в детскую «налаживать отношения», а потом долго жалуется на то, что дочка «все делает на зло», что у нее «нет сердца». И губы у него дрожат, как у обиженного ребенка. А в соседней комнате, с такой же дрожащей губой, сидит Люба и думает об отце, вероятно, теми же самыми словами.
Успокаиваю «старого и малого» ребенка напоминанием о чайнике, шум которого уже подозрительно давно доносится из кухни. И оба, с явным облегчением, начинают суету вокруг стола. Люба с удовольствием исполняет роль хозяйки, а В. Ю., бестолково покрутившись на кухне, добровольно передает «бразды правления» дочке. За столом воцаряется мир и порядок. Опять разговор как-то нечаянно соскальзывает на театральные темы, и В. Ю. вспоминает о том, как худсовет «зарезал» у него шесть вариантов оформления «Иркутской истории». Люба подсказывает какие-то детали, мелочи. Все эскизы даже не осуществленных работ она помнит наизусть.
Читать дальше