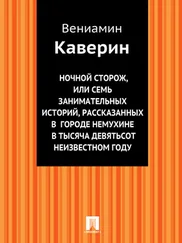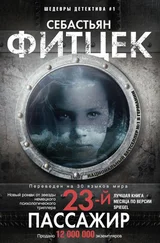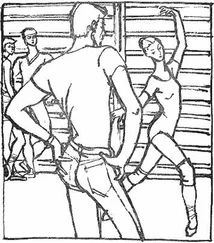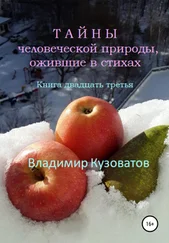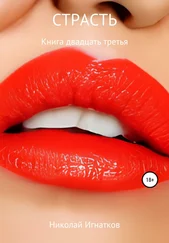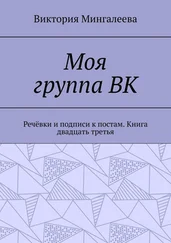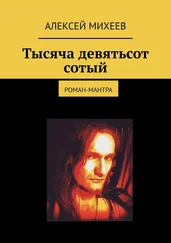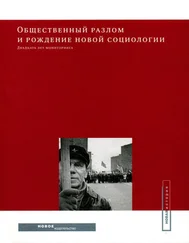Чисткой литературы, живописи, театра и кино от «формалистических тенденций» успешно занимались в те годы Жданов и Суслов. На экраны выходили благостные фильмы, вроде «Сказания о земле Сибирской» и «Падение Берлина». В последнем был очень трогательный кадр, где Сталин (его изображал единственный актер, удостоенный этой чести — Геловани) в белом кителе, с очень красивым и мужественным лицом, ходил по саду и подстригал кусты роз. Портреты и картины, изображавшие Вождя, были отданы на откуп художнику Налбандяну [54] Налбандян Дмитрий Аркадьевич (1906–1993) — живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской премии. Один из наиболее именитых художников сталинской эпохи. Автор картин на историко-революционные темы и портретов многих советских партийных и государственных деятелей от Сталина до Брежнева, а также деятелей международного коммунистического движения.
. Музыку на эту же тему творил Вано Мурадели [55] Мурадели Вано Ильич (1908–1970) — советский композитор, народный артист СССР. Автор большого числа песен, бывших очень популярными в свое время, среди них «Нас воля Сталина вела», «Гимн Москве», «Гимн Международного союза студентов», «Песня борцов за мир», «Москва — Пекин», «Песня молодежи». Его наиболее известные произведения военных лет: «Гимн Ленинграду», «Песня о Победе», «Мы фашистов разобьем» и т. д. В 1947 написал оперу «Великая дружба», которая в специальном постановлении ЦК ВКП(б) названа «формалистской, порочной в музыкальном и сюжетном отношении». Опера была почти сразу же снята по личному распоряжению И. В. Сталина. К XIX съезду партии написал песню «Партия — наш рулевой». После смерти И. В. Сталина продолжал специализироваться на патриотических произведениях. С 1968 секретарь правления Союза композиторов СССР.
. Роман Бабаевского [56] Бабаевский Семен Петрович (1909–2000) — русский советский писатель. Настоящая слава пришла к Бабаевскому с дилогией «Кавалер “Золотой Звезды”» и «Свет над землей» (Государственные премии за обе книги), официально признанной лучшим произведением о фронтовике, организующем подъем в послевоенном селе. Романы дилогии переведены на множество языков страны и мира; «Кавалер “Золотой Звезды”» экранизирован и инсценирован, по его мотивам создана опера.
«Кавалер “Золотой Звезды”» преподносился как лучший образец социалистического реализма. В театре им. Пушкина шел спектакль «Жизнь в цвету», где Н. Черкасов старательно играл просветленного старца Мичурина, чья жизнь возвысилась в результате союза с народным академиком Лысенко.
Я в эти годы уже работала преподавателем курса «Эстетика и основы искусства» в культпросветучилище и, естественно, знакомила своих студентов с «лучшими образцами современного советского искусства», тщательно анализировала с ними все «Постановления ЦК в области культуры и искусства», а на практических занятиях готовила с ними репертуар художественной самодеятельности. Помнится, особенно проникновенно исполнял хор будущих культпросветработников многоголосую «народную» песню, которая начиналась такими словами:
«Рано утром на рассвете
Просыпается земля.
Вместе с солнцем
Выйдет рано
Сталин — солнышко Кремля.
Он закурит свою трубку,
Выйдет молча на крыльцо,
Белоснежным полотенцем
Вытрет смуглое лицо…».
И все это — и процессы, и артисты, и политучеба, и «борьба за соцреализм» — было нашей жизнью в те годы, когда страна еще лежала в развалинах, когда в деревнях еще жили в землянках, а для подготовки земли к пашне должны были сначала захоронить тысячи останков убитых… когда города, и в том числе Ленинград, еще только залечивали раны, когда на месте остовов разрушенных домов возникали скверы, а разрушенные фасады закрашивались живописными панно, чтобы не омрачать взгляд прохожих, когда в квартирах наших было голодно и холодно. (Мне помнится, что долгие годы нашим основным и любимым блюдом была вермишель или «рожки», поджаренные на маргарине. Из овощей только кислая капуста и изредка картофель. Молоко только для ребенка, да и то после многочасовой очереди на рынке). Очень трудно было и с промтоварами: по талонам можно было получить в год на человека три метра шерстяной ткани или четыре метра штапеля, иногда пару обуви. И рядом с этой жизнью вдруг «вейсманисты-морганисты», «формализм в живописи», «космополитизм», «проблемы языкознания»! Абсурдность всего этого становится очевидной только теперь. А тогда воспринималась как некая внутренняя закономерность, понять суть которой нам, простым смертным, не дано.
Читать дальше