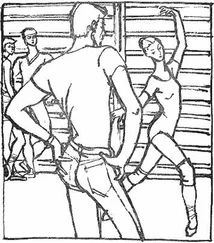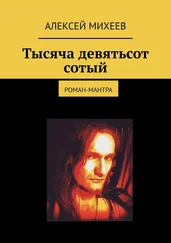В одном из лагерей Томской области по окончании концерта мы за кулисами собирали свои пожитки, костюмы. Еще не прошло возбуждение от горячего приема зрителей. С легкой руки наших цыганят, которые вот-вот должны были уйти по амнистии, мы во втором отделении концерта изображали цыганский табор. Здесь, конечно, и цыганские пляски, и песни (которые мы исполняли на псевдоцыганском языке), и сценка из пушкинских «Цыган», но главным было наше искреннее увлечение этой таборной стихией. Даже суровый Форселлини и наш гитарист обряжались в яркие ситцевые рубахи, пристукивали каблуками и с удовольствием пели в цыганском хоре. Женские костюмы тоже соответствовали штампу цыганщины: насборенные юбки, яркие шали из черного сатина, расшитые аппликациями ярких сказочных цветов, — все это воспринималось зрителями с большим одобрением. Но еще большее удовольствие от этих выступлений получали мы сами.
И вот после сценки, где мы изображали беспечную и свободную жизнь цыганского табора, когда еще хотелось смеяться, петь и не вспоминать ни о чем плохом, мне сказали, что возле двери меня ожидает какая-то женщина. Сердце заколотилось — неужели весточка от Алика?.. Выскочила на крыльцо, навстречу по лестнице поднимается, качаясь, пьяная опухшая баба. Я застыла в недоумении, а она медленно подняла голову, уставилась на меня и вдруг начала хохотать: «Ха! Значит, и тебя наша дорогая подружка заложила! А мы-то, дуры, всю душу ей выкладывали! Ну и дуры же мы были, ну и дуры!..» Изнемогая от смеха, она опустилась на ступеньку. Я ничего не поняла, подумала, что произошла какая-то ошибка. Женщина, закрыв лицо руками, пьяно раскачивалась, бормотала что-то. И тут только, обратив внимание на ее всклокоченную рыжую гриву, я вдруг догадалась, что это Рыжая Райка, студентка мединститута, бывшая приятельница Женьки Лихачевой! А все сказанное относится к ней — моей любимой Женечке! Разговаривать с Райкой было невозможно: она то смеялась, то ругалась по-черному. Ее почему-то очень развлекало то, что она не одна попалась на этот крючок. Узнала я лишь, что Женька — сотрудник Органов, «сексот» и, как говорят, очень преуспевает там…
Эта встреча будто раздавила меня. Чему же и кому можно верить? Зачем Женьке, молодой девчонке, это было нужно? И как живется ей теперь, когда она знает, что столько людей погублено ею?..
А между тем из лагерей продолжали отпускать людей по амнистии. Распрощались мы с цыганятами, дошла очередь и до Лени-гитариста. Пошли всей бригадой провожать его до вахты и впервые увидели, что он может быть веселым, смеяться, шутить, будто помолодел на наших глазах и стал действительно двадцатилетним. Видно было, он еще не верит, что сейчас будет свободен, и в то же время ему было жалко оставлять нас, даже неловко будто. Он и мы еле сдерживали слезы. И так славно, что он догадался достать из чехла свою неразлучную гитару и ударить по струнам, и мы тут же подхватили бойкую песенку: «Не зевай, не горюй, посылай поцелуй у порога. Широка и светла перед нами легла путь-дорога…» — много оптимистических песенок было в те годы. И так дружно мы пели, как будто каждому из нас впереди открывалась светлая путь-дорога. Но в это время из-за угла шагнул охранник: «Вы чего тут распелись? Марш отсюда!». Мы бросились уговаривать его:
— Ведь товарища провожаем, он сейчас уходит, уже пропуск на вахте…
— Ну и что с того, не положено здесь песни орать. Вот выйдет за ворота, там пускай и орет.
Меня эта бесчувственность так расстроила, что я подбежала к охраннику и начала убеждать: «Неужели вы ничего не понимаете? Неужели вы не человек?..». Почему-то эта фраза особенно его обозлила: «Что?! Я — не человек? А ну руки за спину и марш в БУР!». Ребята пытались отстоять меня, уверяли, что я не хотела его оскорбить, но все было напрасно. Так закончилось наше прощание с Леонидом. Оставил он нам щедрый подарок — свою гитару. (Гитару-то оставил, да кто заменит его). А когда меня конвоир уже вел мимо вахты, я сквозь решетку ворот увидела Ленечку. Он, размахивая руками, отплясывал посреди дороги что-то дикое и выкрикивал слова нашей бесшабашной песенки:
«…Веселей гудок горластый
В путь-дорогу подгоняй!
Тот оценит слово «здравствуй»,
Кто сумел сказать «прощай».
Не зевай! Не горюй!..».
Я рассмеялась, да так и прошла через весь лагерь, будто меня к награде представили, а не в БУР ведут. А заведение это к радости не располагало. Размещалось оно в огромном старом бараке, почти по самую крышу ушедшем в землю. Через маленькие зарешеченные окна его можно было видеть только ноги шагающих взад-вперед охранников. Правда, рядом с этим бараком возводилось двухэтажное солидное кирпичное здание и через месяц-другой предстояло «новоселье». А пока мы ощупью спустились в темный промозглый коридор, по обе стороны которого находились узкие отсеки, как стойла для скота. Захлопнулась за спиной тяжеленная дверь, и после яркого солнца с трудом можно было различить деревянные нары с охапкой прелой соломы, земляной пол, вонючую парашу в углу. Темно, вонь, сырость. Вечером принесли пайку хлеба и кружку воды.
Читать дальше