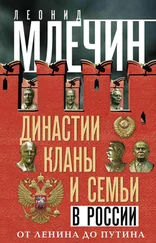— Ты, свинья, я еще вернусь, — ухмыльнулся он.
Я поднялся с пола и дотащился до кровати. В паху пульсировало, и любое мое движение вызывало боль во всем теле. Я лежал так до ужина: травяной чай и кусок хлеба. Обмакнув хлеб в чай, я смочил им свое лицо. Потом я лежал в темноте и ждал сна, который все не шел.
Ночью кто-то из охранников заглядывал в камеру через дверь. Я делал вид, что сплю. Что будет, если вернется Лебон, думал я. Утром пришел Грифф. Сейчас тело мое было в еще худшем состоянии, и дорога в туалет через камеру показалась мне далеким путешествием.
— Сам напросился, — сказал Грифф без особых эмоций.
Я молча стоял перед ним. Он сказал, приказано держать меня в течение месяца в одиночной камере. В течение недели я буду получать только хлеб и суп. Не будет также ежедневных прогулок по тюремному двору. Я могу получать почту, но не могу отправлять. Датой моего освобождения будет теперь девятое сентября 1943 года, на два дня позже, чем первоначальный срок. Это — наказание за побег и за мою короткую свободу.
На следующий день на дежурстве был добродушный Палисс. Он просунул хлеб и суп через узкое отверстие в двери и покачал головой, увидев меня. Под правым глазом у меня отекло и болело. Ягодицы болели так, что сесть было невозможно, и я ходил и ходил по камере. Вы будете за решеткой в безопасности, говорил мне Салью. Не выходи на улицу, говорил мне Спира. Оставайся в Париже, умоляла меня тетя Эрна. Как много голосов, более разумных, чем мой, но я не послушал никого. Не полагайся ни на кого , сказала мне мама. Где она сейчас, где сейчас мои сестры, так любившие меня, где Анни?
Через несколько дней пришел тюремный парикмахер: мои волосы отросли, их нужно было снова сбрить. Я вздрагивал, когда он прикасался к местам побоев на моей голове.
— Как выглядит мое лицо? — спросил я.
— Непривлекательно, — ответил он.
Он подмел с пола волосы и вышел из камеры. Ни слова больше. Но звук этих коротких слов показался мне музыкой и долгое время снова и снова раздавался у меня в голове, просто потому, что это были звуки. Время стало моим врагом. Медленно подступала скука, проникая все глубже в меня и вытесняя все: страх и стремления, маму, и сестер, и Анни; вытесняя жандармов, и гитлеровскую армию, и саму войну.
День за днем тело мое выздоравливало, боли отступали. Только грыжа мучила меня: один день — ужасно, не так сильно на следующий, затем боли опять возобновлялись. У меня была одна цель: не освободиться, а освободиться из одиночного заключения и переместиться в другую камеру, с еще одним человеческим существом. Возможно, сокамерник имел бы доступ к радио, или к газете, или хотя бы к слухам от кого-нибудь, кто читал газету или слушал радио и знал, о чем сообщалось.
Однажды пришло письмо от Сюзи Спиры. Она писала, они знают о моем бедственном положении и пришлют мне еду, как только закончится мое заключение в одиночной камере. Они были все еще в Баньере, Фрайермауеры — в Котре. Итак, мир не полностью покинул меня: все еще были вблизи любимые люди. Я лег на кровать и представил, как буду писать письма из новой камеры. Я вспоминал Милли Кахен, стоящую по другую сторону колючей проволоки в последнюю ночь в Ривзальте; Манфреда, как он попрощался со мной и вышел из поезда. Может быть, я смогу написать им обоим из моего нового жилья.
Я больше не спал. Ночи тянулись бесконечно, лишь изредка прерываемые маленькими развлечениями: коротким звуком собачьего лая, обрывками разговоров во дворе под моим окном или лязгом металлических дверей. По прошествии двух недель я попросил Палисса помочь мне не умереть от скуки. Не мог ли бы он принести мне хотя бы бумагу и чернила, чтобы я мог рисовать? К полудню он принес мне несколько листов бумаги, ручку и пузырек чернил.
Последние две недели в одиночестве я занимался тем, что переносил возникающие в моей голове рисунки, каракули и всякую чепуху на бумагу.
Наконец, меня перевели на первый этаж в камеру с еще одним заключенным. Он был вежливым, но через три дня исчез. Утром его забрали в суд, и больше он не вернулся. Потом был другой сокамерник, посаженный за деятельность на черном рынке. Он оставался несколько недель. Они приходили и уходили, полдюжины сокамерников за месяцы и месяцы.
Теперь мне было разрешено ежедневно выходить в тюремный двор на прогулку. Свежий воздух возвращал мне силы. Ноги у меня еще болели, но движения шли на пользу. Легкий ветерок действовал целительно на мое все еще разбитое лицо. Однажды утром на тюремном дворе я увидел Либетрау, и мы поприветствовали друг друга как старые друзья. Его скоро освободят, сказал он, и он вернется в свою родную Швейцарию.
Читать дальше

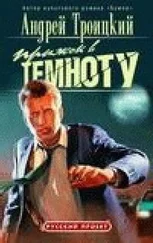
![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

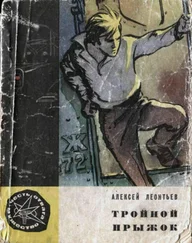

![Лео Перуц - Прыжок в неизвестное [Свобода]](/books/338003/leo-peruc-pryzhok-v-neizvestnoe-svoboda-thumb.webp)



![Николай Прохоров - Прыжок в темноту [Из записок партизана]](/books/413253/nikolaj-prohorov-pryzhok-v-temnotu-iz-zapisok-part-thumb.webp)