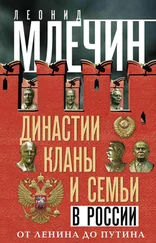Мама упаковывала мои вещи, а я тупо стоял рядом. В потертый кожаный портфель отправились туалетные принадлежности и несколько старых фотографий. Рубашки, белье и носки, а также религиозные предметы: молитвенник, талес и тефилин (кожаные коробочки со свитками Торы, носимые религиозными евреями во время утренней молитвы) — пошли в маленький чемодан.
Мы не являлись ортодоксальными евреями. Чувствуя себя глубоко связанными с иудаизмом, мы не были, однако, настолько религиозны, чтобы исполнять все обряды. Но сейчас речь шла о другом. Мама пыталась сохранить корни. Она напомнила мне, что есть очень древние вещи, которые связывают нас всех друг с другом: никогда не забывай, кто ты есть. Может быть, это было суеверие. А может быть, она думала, что так Бог скорее поможет мне. Ни ей, ни мне не пришло в голову, что эти предметы могут быть очень опасны для меня по дороге из оккупированной нацистами Австрии через Германию в крошечный Люксембург.
В Европе продолжались спазмы самоуничтожения и безжалостной юдофобии. По всей Австрии евреев, полуевреев и людей, имеющих еврейских родственников, увольняли с государственных мест работы. Еврейским врачам и адвокатам, высокопрофессиональным специалистам, было запрещено работать по специальности. Еврейские магазины закрывались и передавались арийцам. «Entjudung» — называли это нацисты. «Деевреизация». Нацистский салют с вытянутой правой рукой стал обязателен в суде и других государственных учреждениях и быстро проложил себе дорогу в классные комнаты и другие места повседневной жизни.
Через несколько дней после того, как Гитлер вошел в Вену, Адольф Эйхман запретил еврейские организации и приказал арестовать их руководителей. Желающие эмигрировать утрачивали всю свою собственность, им оставляли ровно столько денег, чтобы они могли покинуть страну. Но куда мы могли уехать? И как мы могли получить документы для отъезда, если простой запрос их подтверждал, что ты — еврей, а быть евреем означало находиться под ударом. Затем ввели новое правило: евреям запрещалось изменять фамилии, и было приказано каждому иметь при себе специальное удостоверение личности. Дальше больше: мужчины обязаны были к своему имени добавить «Израиль», а женщины — «Сара».
— Сара, Сара, Сара! — кричали на рынке школьники-подростки вслед моей бабушке.
Семь месяцев прятались мы в нашей маленькой трехкомнатной квартире на первом этаже, постоянно опасаясь, что нас заберут. Мы почти не осмеливались выходить на улицу. В последний день дома я скользил взглядом по квартире, как будто хотел отпечатать ее в своей памяти, и одновременно подыскивал слова утешения для мамы.
— Мама, — сказал я, — не беспокойся. Все будет хорошо.
Она посмотрела на меня и грустно улыбнулась, не сказав ни слова. Я был незрелым семнадцатилетним мальчиком, пытающимся пустыми фразами ввести в заблуждение изможденную от забот женщину. Чуть позже мы надели пальто и отправились к ближайшему углу ждать трамвай номер 5, на котором я должен был ехать к бабушке в район Оттакринг. Это означало прощание с мамой. Все происходящее было слишком тяжело для нее: сцена в больнице, опасности в городе, расставание с сыном. К началу моего бегства из Австрии, после всего пережитого, поездка через весь город к вокзалу была ей не по силам.
В Вене уже зажгли фонари. Мама, Генни и я стояли в ожидании трамвая, и мне становилось все тревожнее. Я боялся взрыва чувств со стороны мамы и в то же время опасался своих собственных слов, собственных сомнений, чего-то, что было бы неловким и мучительным для меня и ничем не помогло бы маме.
— Будь очень осторожен, — сказала мама, когда подъехал трамвай.
Легкий туман клубился в свете фар. Я обнял маму и Генни и вошел в трамвай, чтобы за пятнадцать минут добраться до бабушки.
— Будь осторожен, — повторила она. — И напиши как можно скорее!
Никогда больше я не видел маму и сестер.
Я был еще подростком, стоящим на пороге взросления. Всю свою жизнь я нес ответственность, но в определенных границах, которые давали мне чувство защищенности. Все эти границы начали теперь исчезать. Я пытался внушить себе, что это — начало великолепного приключения: поездка в Люксембург, чтобы увидеть дядю и тетю. Расставание, без сомнения, временное.
Когда я пришел к бабушке, там было еще печальнее. Ее дочь, моя тетя Роза, сидела рядом с бабушкой, держа ее за руки. Тетя Роза, которая боялась темноты, видела, как тьма сгущается вокруг нас. Неделю назад, на прощание, она взяла меня с собой в Венскую государственную оперу на «Травиату». Мы оба делали вид, что в мире все еще есть остатки культуры. Дядя Исидор тоже был у бабушки. Он выглядел почти таким же обеспокоенным, как в день прихода Гитлера, когда чужие люди насильственно вторглись в еврейские квартиры. Бабушка, оцепенев, сидела в кресле и плакала, не скрывая слез.
Читать дальше

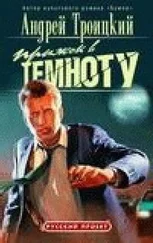
![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

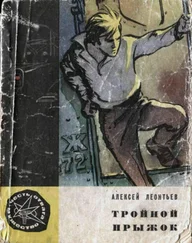

![Лео Перуц - Прыжок в неизвестное [Свобода]](/books/338003/leo-peruc-pryzhok-v-neizvestnoe-svoboda-thumb.webp)



![Николай Прохоров - Прыжок в темноту [Из записок партизана]](/books/413253/nikolaj-prohorov-pryzhok-v-temnotu-iz-zapisok-part-thumb.webp)