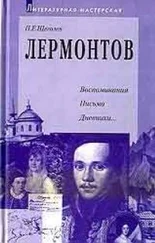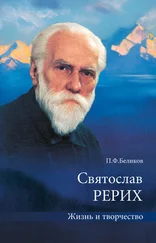Товарищ Лермонтова по «школе», поступивший в нее лишь годом раньше, князь Александр Иванович Барятинский, рассказывая нам многие из эпизодов своей жизни, вспомнил о том, как тяжело тогда доставалось в «школе» молодым людям, поступившим в нее из семей, в которых они получали тщательное воспитание. Обычаи школы требовали известного ухарства. Понятия о геройстве и правдивости были своеобразные и ложные, отчего немало страдали пришедшие извне новички, пока не привыкали ко взглядам товарищей; что в таком-то случае обмануть начальство похвально, а в таком-то необходимо сказать правду. Так, например, считалось доблестным не выдавать товарища, который, наперед надломив тарелку, ставил на нее массу других, отчего вся груда с треском падала и разбивалась, как только служитель приподнимал ее со стола. Юнкера хохотали, а служителя наказывали. Новичка, вступавшегося за несчастного служителя, если не прямо клеймили доносчиком, то немилосердно преследовали за мягкосердие и, именуя его «маменькиным сынком», прозывали более или менее презрительными прозвищами. Хвалили же и восхищались теми, кто быстро выказывал «закал», то есть неустрашимость при товарищеских предприятиях, обмане начальства, выкидывании разных «смелых штук». Вероятно, крайне самолюбивый Лермонтов боялся попасть в число «маменькиных сынков» и потому старался бравировать и сразу получить репутацию «лихого юнкера». В школе славился своей силой юнкер Евграф Карачевский. Он гнул шомпола или вязал из них узлы, как из веревок. За испорченные шомпола гусарских карабинов много пришлось ему переплатить денег унтер-офицерам, заведывавшим казенной амуницией. С этим Карачевским тягался Лермонтов, который обладал большой силой в руках. Однажды, когда оба они забавлялись пробой силы, в зал вошел директор «школы» Шлиппенбах. Вспылив, он стал выговаривать обоим юнкерам: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети что ли вы, чтобы шалить? — Ступайте под арест!» Оба высидели сутки. Рассказывая затем товарищам про выговор, полученный от начальника, Лермонтов с хохотом заметили: «Хороши дети, которые могут из железных шомполов вязать узлы!»
Это самолюбивое желание первенствовать или, по крайней мере, не отставать от товарищей было причиной случая, едва не имевшего весьма печальных последствий. Вот как рассказывает о нем товарищ поэта по школе: «Вступление Лермонтова в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтобы показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Долго лежал он потом больным в квартире бабушки. В письме от 25 февраля 1833 года Лопухин просил его: „Напиши мне, что ты в школе остаешься, или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную“. Лермонтов проболел несколько месяцев, но поправился, хотя потом всю жизнь едва заметно прихрамывал. Таким образом, он в первый год своего поступления в школу между товарищами пробыл лишь два месяца. 18 июня 1833 года он пишет Лопухиной:
Надеюсь, Вам приятно будет знать, что побывав в школе всего два месяца, я выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых. Это все же питает надежду близкой свободы.
Петербург и петербургское общество сразу не понравились Лермонтову. Он отстранился от него и ушел в самого себя. Вскоре по приезде (в конце августа 1832 года) он пишет в Москву своей приятельнице:
Вы просите назвать Вам всех, у кого бываю? Из всех лиц, с которыми имею общение, приятнейшее для меня — это я. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных своих, с которыми должен познакомиться, но под юнец нашел, что лучший из родственников моих я сам. Видел я образчики здешнего общества — дам весьма любезных, молодых людей весьма вежливых; все они вместе производили на меня впечатление французского сада, узкого и незамысловатого, но в котором с первого раза легко можно потеряться, до того хозяйские ножницы уничтожили в нем все самобытное.
После величаво раскинувшейся Москвы с ее пестротой и своеобразием — города, давно живущего исторической жизнью, — административный Петербург с прямыми улицами и казенными домами, окрашенными в желтую форменную краску, гранитный и холодный, с зелено-бледным небом и однообразием скучной официальной жизни, не мог понравиться поэту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу