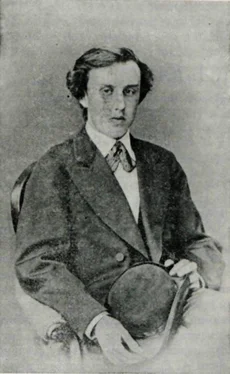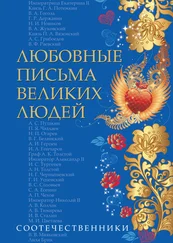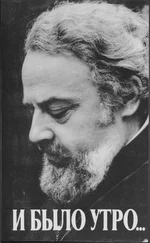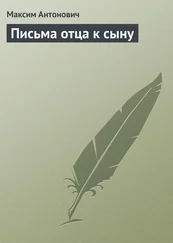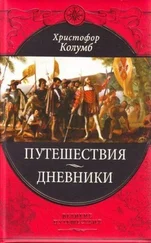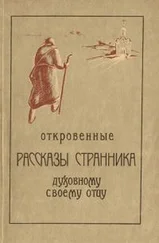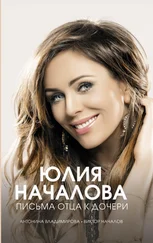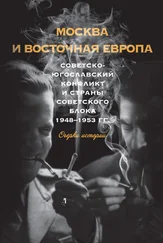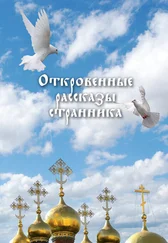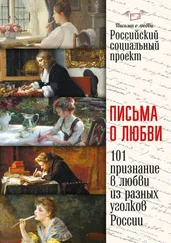Особенно широкую полемику вызвала вторая книга: «Политическая литература в России и о России (вступление в курс русского государственного права)» (Варшава, 1884) с приложением общей программы курса, — предназначавшаяся для студентов Варшавского университета (в то время главным образом поляков).
В этой работе, по жанру скорее напоминающей публицистический очерк, чем ученый труд, Александр Львович, отмечая односторонность славянофилов и западников, стремился доказать, что как те, так и другие не понимали истинного величия России, которой по размерам, социальному и многонациональному составу нет равных в Европе и которой в силу этих и других, присущих ей особенностей, предстоит в будущем великая всемирно-историческая роль.
Чтобы лучше уяснить очень важную для нас черту во взглядах и пристрастиях Александра Львовича, следует привести то место книги, где он, критикуя западников, проглядевших светлые стороны в истории и культуре России, говорит, в частности, о красоте, значительности и реализме русского устного народного творчества, сопоставляя его с западноевропейским: «А народные песни и в особенности былины о разных «чудо-богатырях», олицетворявших в себе всякую силу и всякие подвиги, не одни только физические, но отчасти и нравственные? Последние едва ли даже не превышают по своему общественному значению все «благородные» или просто «эффектные» поступки наиболее блестящих западных «героев», — начиная хоть с «неистового Роланда» и кончая позднейшими «рыцарями без страха и упрека», прославленными за непроизводительное служение «богу и даме». Знаменитый Илья Муромец, у которого «сила-то по жилочкам так живчиком и переливается», которому «грузно от силушки, как от тяжкого бремени», — является не простым искателем приключений и личных успехов или самоотверженным блюстителем каких-нибудь королевских интересов, вроде германского Зигфрида. И он, и многие другие богатыри, эти герои русского народного эпоса, отчасти ради собственной «потехи молодецкой» совершают разные общеполезные дела, т. е., например, истребляют разбойников, «поганых» половцев, татар и т. п., отчасти же по доброй охоте, сами по себе и каждый по-своему «страдают за русскую землю», причем кланяются «на все четыре стороны» и держатся вообще очень независимо, даже по отношению к «ласкову князю Владимиру». Таковы были идеалы общества и в ту позднейшую эпоху, к которой относится происхождение былин; таковыми остаются они отчасти и в наше время. Нечего и говорить о сравнительном реализме, всегда отличавшем нашу народную поэзию и многим даже препятствовавшем понять всю возвышенность ее духовного полета. Например, жизнерадостный богатырь «Алеша Попович-млад» занимается между прочим обольщением девиц и молодиц, но употребляет при этом довольно обыкновенные, земные средства (кажется, игру на гуслях и т. п.), не замешивая в дело те небесные и «адские» силы, которые играют такую важную роль в западных легендах о Дон-Жуане и Фаусте; а главное — он и не думает «продавать свою душу дьяволу», что может быть всего характернее в данных примерах» 10. Завершая свою книгу, в которой много ссылок на исторические и философские труды и цитат из произведений Хомякова, Чаадаева, Герцена, Пушкина, Лермонтова, Тютчева и, конечно, Достоевского, Александр Львович приводит строки из поэмы Некрасова «Несчастные»: «Опередили иноземцы, — // Но мы догоним в добрый час!» и т. д.» — и кончает следующими словами: «Широкая и глубокая идея России, столь часто воплощавшаяся в разных изящных искусствах, должна воплотиться, наконец, и в труднейшем из искусств — в искусстве отвлеченного мышления вообще, а в частности, и в мышлении научно-политическом, может быть, наиболее из всех трудном: я не о внешних только трудностях говорю» 11.
Приведенные выше отрывки дают некоторое представление о том сжатом и образном стиле, к которому тяготел Александр Львович.
Кроме двух небольших по объему, но емких по содержанию книжек и актовой речи «Об отношении научно-философских теорий к практической государственной деятельности», появившейся с большими цензурными сокращениями в «Варшавских университетских известиях» в 1888 г., Александр Львович больше ничего из научных трудов не напечатал, если не считать еще нескольких критических статей в специальных журналах и пространных программ курса государственного права в тех же «Варшавских университетских известиях», содержание которого менялось им почти каждый год.
Читать дальше