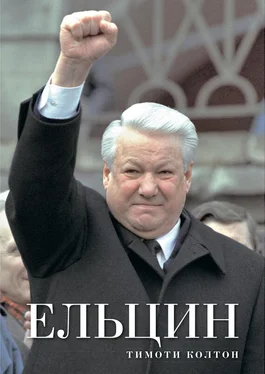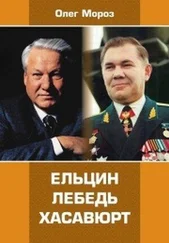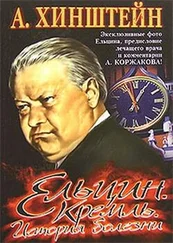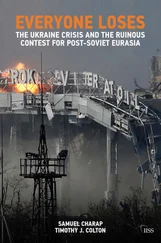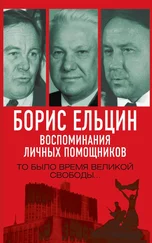Ввиду того что сведения неполные, а сам Ельцин пишет довольно скупо, аналитики долгое время цитировали эти фрагменты как непреложную истину, невольно недооценив тяготы, которым подверглась эта семья [64] См.: Morrison J. Boris Yeltsin: From Bolshevik to Democrat. N. Y.: Dutton, 1991. P. 32–33; Solovyov V., Klepikova E. Boris Yeltsin: A Political Biography / Trans. D. Gurevich. N. Y.: Putnam’s, 1992. P. 116–118; Colton T. J. Boris Yeltsin: Russia’s All-Thumbs Democrat // Ed. Colton and Robert C. Tucker. Patterns in Post-Soviet Leadership. Boulder: Westview, 1995. P. 50–51; Mikheyev D. Russia Transformed. Indianapolis: Hudson Institute, 1996. P. 49–51; Aron L. Yeltsin: A Revolutionary Life. N. Y: St. Martin’s, 2000. Chap. 1. В книге Арона содержится более свежая информация о Николае Ельцине, чем в других источниках. Михеев ошибочно называет (р. 51) детство Ельцина «трудным, но без жестокостей и ужасов».
. Одни оценки были правильными, другие — нет. Даже в 1990 году существовали пробелы и расхождения. Игнатию Ельцину в 1931 году не могло быть 80 лет, поскольку в таком случае его первенец должен был появиться, когда ему было 50 лет, что крайне маловероятно для крестьянской семьи. В «Исповеди» Борис Ельцин пишет, что его дед до 1934–1935 годов тихо жил в Бутке, а его мать, Клавдия Васильевна, «послала» свекра в ссылку в 1931 году. Ельцин описывает свою встречу с дедом в 1949 году, спустя почти двадцать лет после его мнимой смерти в северной тайге. При этом он отмечает, что деду было «уже за семьдесят», — еще одно несоответствие. Ельцин также утверждает, что оба деда прожили более девяноста лет, что противоречит тому, что его мать сказала об Игнатии Екимовиче. Никто ничего не сообщает о судьбе Анны Дмитриевны Ельциной — в «Исповеди» и других источниках ее имя даже не упоминается.
Восполнить недостающие звенья цепи удалось благодаря информации, полученной от членов семьи, а также из неопубликованной автобиографии Николая Ельцина и исследований Алексея Литвина, историка из Казанского государственного университета. Судьба деда и бабки Ельцина по отцовской линии действительно была душераздирающей, о чем Клавдия Васильевна, хоть и неточно, рассказала Горюну. Жребий был брошен, когда басмановский сельсовет в 1928 или 1929 году обложил Игнатия Ельцина налогом по повышенным ставкам и по статье советской конституции 1918 года лишил его гражданских прав. Выборы, в которых он потерял право участвовать, были обычным фарсом без намека на соревнование, но настоящим наказанием стало причисление к социальной категории, считавшейся враждебной коммунистам и не имевшей прав ни на какие послабления [65] Чтобы представлять себе ситуацию, см. также: Alexopolous G. Stalin’s Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936. Ithaca: Cornell University Press, 2003. В городах раскулаченным не выдавали продуктовые карточки, что не имело отношения к сельской местности.
. В 1930 году Игнатий был официально признан кулаком, трижды виноватым перед режимом: как процветающий земледелец, кузнец, да еще и владелец мельницы — все эти занятия числились у нового государства в черном списке.
Раскулачивание косвенно затрагивало всех и каждого, но определенной части сельского населения этот процесс коснулся особенно болезненно. Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б), принятому в Москве в январе 1930 года, кулаков делили на три категории. Первая — «контрреволюционный актив»: люди, которые воевали в белой армии или были настроены против партии. Их следовало арестовывать в срочном порядке и отправлять в концентрационные лагеря. Вторая категория — «богатые» кулаки, имевшие собственность, но не совершавшие политических преступлений. Их высылали на север, в «специальные поселения». Игнатий относился к третьей, самой малой и наименее вредной категории. Собственность кулаков третьей категории экспроприировали, а их самих, как крепостных, расселяли на других землях в тех же районах, позволяя сохранить часть сельскохозяйственного инвентаря и личного имущества. Различия между кулацкими категориями были весьма неопределенными, как и различие между кулаками и «середняками». Типичная уральская семья, подлежавшая раскулачиванию, имела дом, одну корову, немного домашней птицы, обрабатывала 2–3 гектара земли и «далеко не была зажиточной» [66] Судьба раскулаченных спецпереселенцев на Урале, 1930–1936 гг. / Под ред. А. И. Бедель и Т. И. Славко. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного университета, 1994. С. 14.
. Игнатий и Анна Ельцины в 1920-х годах имели больше, а до 1917 года — гораздо больше, поэтому их вполне могли отнести и ко второй категории. Но и попадание в третью категорию было очень опасно. В августе или сентябре 1930 года, во время уборки урожая, деревенские власти конфисковали имущество Игнатия и отправили его, Анну, их сыновей и невесток (одной из них была беременная Клавдия Ельцина) в Бутку, которая в начале 1920-х годов стала районным центром. Когда семью Ельциных грузили на конную повозку, чтобы переселять в Бутку, Игнатий в отчаянии плакал и заламывал руки. Он просил свою дочь Марию, единственную родственницу, которой было позволено остаться, молиться за него: «За что меня выгоняют? За то, что я построил своими руками!» [67] Интервью с Гомзиковой. Серафима Гомзикова, в 1930 году бывшая маленькой девочкой, запомнила это событие. Дом ее родителей был конфискован, и местные коммунисты потребовали, чтобы отец развелся с матерью, Марией (единственной дочерью Игнатия). Он отказался. Если имя Анны Ельциной было пропущено в предыдущих записях, то в случае Марии, умершей в 1950-х годах, само ее существование не было зарегистрировано. Серафима — ее единственная дожившая до наших дней дочь.
Мельница и кузница Игнатия быстро пришли в запустение, а все, что в них было, растащили соседи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу