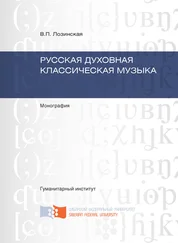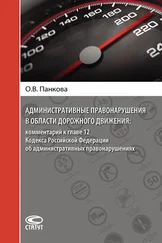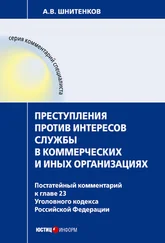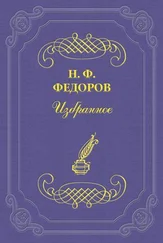Вероятно, девочке повезло, что она не осталась в отчем доме. Роман Воронцов, человек не слишком высоких нравственных правил, для просвещенных людей своего круга служил и неким эталоном невежества. Не случайно его имя упоминает вице-президент Адмиралтейской коллегии И. Г. Чернышев в письме будущему куратору Московского университета И. И. Шувалову в связи с событием 26 июля 1753 г. В тот день при безоблачном небе был убит молнией во время опытов по изучению атмосферного электричества Г. В. Рихман. Ломоносов выразил опасение, что сей случай может быть истолкован «противу приращений наук», и, словно вторя ему, И. Г. Чернышев пишет: «Любопытен я знать теперь, что говорит об электрической машине Роман Ларионович: он и прежде, когда мы еще не знали, что она смертоносна, ненавидел ее». [3] «Русский архив», год седьмой, 1869, с. 1781–1782.
И еще штрих к портрету. Назначенный наместником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний, Роман Воронцов до того разорил поборами эти земли, что слух о его «неукротимом лихоимстве» дошел до императрицы.
Сохранился анекдот о том, что во время праздничного обеда по случаю дня рождения графа Романа ему при гостях был вручен подарок от государыни — длинный пустой кошелек [4] Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738–1793, т. 3. СПб., 1872, с. 892–893; Дневник А. В. Храповицкого. М., 1901, с. 187, 272 (далее: Храповицкий А. В. Дневник).
. Роман Илларионович не перенес афронта и вскоре скончался. Нашелся, правда, стихотворец, сочинивший эпитафию, где прославил именно те добродетели, коих очевидно начисто был лишен Р. И. Воронцов, — бескорыстие и сострадание к ближним. Но эта эпитафия, напечатанная в журнале, во главе которого стояла дочь покойного, не изменила мнения о Р. Воронцове — за ним прочно закрепилась кличка: «Роман — большой карман».
О матери Е. Р. Дашковой — Марфе Ивановне, урожденной Сурминой, известно немного. Слыла она красавицей и плясуньей и будто бы попала в число тех девушек, которых привели к императрице Анне, чтобы продемонстрировать ей русскую пляску. Девушки так испугались грозной подруги Бирона, что и плясать не смогли: ноги приросли к полу. Говорят еще, что Марфа Ивановна Сурмина обладала значительными капиталами, которые нередко выручали мотовку Елизавету Петровну до восшествия той на престол да в какой-то мере и способствовали этому событию: к помощи невестки не раз прибегал М. И. Воронцов, лицо близкое великой княжне (в годы царствования Елизаветы Петровны М. И. Воронцов стал одним из наиболее влиятельных вельмож). «Семья Воронцовых, — пишет Герцен, — принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, которые вместе с наложниками императриц управляли тогда, как хотели, Россией, круто переходившей из одного государственного быта в другой. Они хозяйничали в царстве точно так, как теперь у богатых помещиков дворовые управляют дальними и ближними волостями». [5] Герцен А. И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. — Собр. соч. в 30-ти т., т. 12. М., 1957, с. 369.
Талантами государственного деятеля М. И. Воронцов не обладал. По мнению большинства историков, был человеком слабохарактерным, подверженным чужому влиянию. Однако он искренно интересовался развитием отечественной науки и литературы, покровительствовал Ломоносову. И по всем свидетельствам, в отличие от своего старшего брата, был человеком порядочным.
Екатерина Романовна воспитывалась вместе со своей двоюродной сестрой, дочерью канцлера. «Мой дядя не жалел денег на учителей. И мы — по своему времени — получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать; некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев; у нас были изысканные и любезные манеры, и потому немудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего…»
Началом своего нравственного воспитания Дашкова считает время первой разлуки с домом канцлера.
В 14 лет она заболела корью, и ее отправили в деревню. Корь и оспа, пишет Герцен, были «не шуткой в те времена, а чуть не государственным преступлением» [6] Герцен А. И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. — Собр. соч. в 30-ти т., т. 12. М., 1957, с. 369.
(опасались за здоровье малолетнего Павла Петровича).
Читать дальше
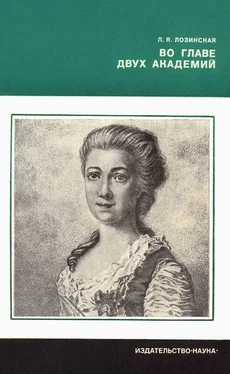
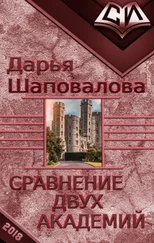

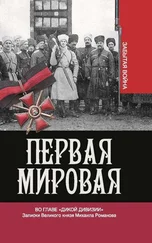

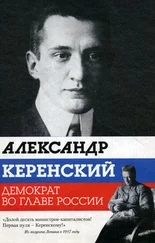
![Анна Терешкова - Война академий. Приручить ведьму Хаоса [Призрачные миры]](/books/428429/anna-tereshkova-vojna-akademij-priruchit-vedmu-ha-thumb.webp)