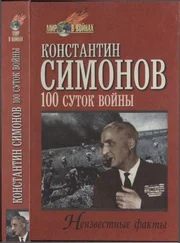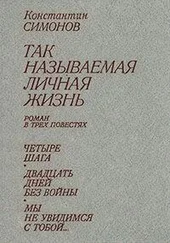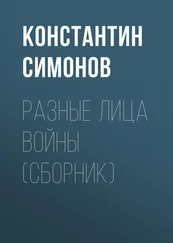И про то, что мать работала милосердной сестрой в земском санитарном поезде...
Старуха была независимая и строгая. Дорожила тем, что могла бы и сама себя содержать, и еще накануне войны заведовала отделом в исторической библиотеке. За словом в карман не лезла, могла сказать в глаза человеку: "Не нравитесь вы мне". И сына могла одернуть при людях, если его слишком заносило в рассказах: "Слава, не ври, пожалуйста!"
При этом безгранично его любила, как может рано овдовевшая женщина любить единственного сына.
И в свою очередь много для него значила.
Пожалуй, даже в своей путаной семейной жизни он оказался неподатливей, чем можно было от него ожидать, потому что мать оставалась рядом и было на кого опереться.
"Как она сама-то пережила все, что с ним случилось? Не укоротило ли это ее дни? - подумал Лопатин, прислушиваясь к шагам в соседней комнате. - Все еще ходит... Плохо, когда человек одинок!" Зная Вячеслава, понимал, что какая-нибудь женщина, наверно, иногда ночует у него или он у нее, но это дела не меняет, все равно одинок! Знал это по себе. Ксения последние годы тоже, в сущности, была не женой, а женщиной, то приходившей по ночам к нему, то позволявшей ему приходить к ней.
Всякая чужая жизнь в конце-то концов открывается через свою собственную, даже непохожую, и он подумал о собственной молодости.
Не было в ней, в этой молодости, ни отца, которым можно молча или вслух гордиться, ни семейных традиций. Была только ранняя забота о хлебе насущном и беготня по урокам, начиная с пятого класса реального училища. Была вдовая мать, слабая здоровьем, добрая и беспомощная, две младшие сестры и старшая, уехавшая вслед за ссыльным женихом в Сибирь...
Была нелюбимая должность счетовода в Московском коммерческом банке и в первую мировую войну освобождение от военной службы - и по близорукости, и как единственного сына, кормильца семьи.
А потом, после революции, все та же служба, в том же, только по-другому называвшемся, месте, полтора голодных пайковых года в Москве и по настоянию матери, из-за нее и младших, тогда еще незамужних сестер, переезд к родственникам в Саратов, где, считалось, будет сытнее.
Революция и гражданская война прошли как-то мимо него, среди забот о близких и куске хлеба для них. Только в двадцатом году, когда кончалась гражданская война и он после двух с маху написанных и, к его удивлению, напечатанных стихов попал работать в губернскую газету, ему, двадцатичетырехлетнему ровеснику многих тогдашних начдивов и комбригов, в новой обстановке, среди новых людей показалась скудной и почти напрасной вся прожитая им до этого жизнь.
Вспоминая молодость, он с горечью шутил над собой, что поздновато признал Советскую власть. В шутке была доля правды.
Молодость вспоминалась как какое-то ни то ни се.
И в Москве в двадцать третьем году, когда вернулся, похоронив мать, тоже поначалу было ни то ни се. Хотя он к тому времени уж научился писать на газетную полосу, но бессмысленно продолжал лезть в поэты. И добился выпустил свою первую и последнюю книжку незавидных стихов. Именно к той поре и относилось начало его знакомства с Вячеславом, от доброй души хвалившим его и подкармливавшим.
А после стихов напечатал вымученный подражательный роман, и злился, что его ругают, и топтался в редакциях, перебиваясь случайными заработками, и пропивал их не в лучшей компании.
И только к тридцати годам, когда, все еще не найдя себя, уже начинал чувствовать себя потерянным, само время заново ткнуло его носом в газетную полосу.
Смеясь, говорил потом о себе: я дитя первой пятилетки! А на деле так оно и было! С первых поездок по стройкам и началось то настоящее, что потом стало смыслом жизни. Попал в колею, из которой уже не вытащили никакие соблазны. Из дурного беллетриста стал газетчиком, из мало кому нужного человека - нужным, и все чаще до зарезу, до того, что - из поездки в поездку, из одного конца страны в другой. И даже удивился, когда летом тридцать четвертого года, вернувшись с зимовки, вдруг узнал, что за три книги очерков принят в Союз писателей. Главным в жизни были поездки, а книги сложились из них как-то сами собою...
Все это было давным-давно, целых восемь лет назад. На съезде писателей выступал бежавший из Германии Фридрих Вольф и говорил о германском фашизме. Осенью в Сталинграде Лопатин вспоминал это выступление со странным чувством. Тогда, в тридцать четвертом, фашисты, про которых говорил Вольф, были гдето далеко, там, у себя в Берлине, а мы - у себя в Москве. А в Сталинграде все стало впритык! В двух соседних разбитых бомбами домах: в одном - мы, в другом - они!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу