Но раз уж спорщик выставил какой-то свой временной счёт, Константин распахнул перед ним евангельскую главу с Матвеевым порядком поколений — от Адама до Христа. Зри, человече, и слышь. Говорят ли что-нибудь твоей памяти древние родословия, ведомые твоим предкам имена: кто кого породил, кто от какого был колена? Так зри же и разумей: пришёл Христос! И зри, сколько лет уже минуло с той поры, как пришёл — «оттоле и доселе». Убедил — не убедил, но собеседник спорить больше не стал и даже благодарил, так что расстались мирно.
А между тем новая гостья толкнула без звука дверь, прошла без спроса. И не куда-то мимо прошла, а прямиком — во внутреннее естество Константина.
Самоуправной хозяйкой вошла, без слов объявила: «Мой, весь теперь мой». Неумолимая язвила его мука, такой никогда ещё, кажется, не терпел. Разве лишь Багдад пришёл на память, где он страдал внутренностями и все свои подозревали, что отравлен.
Но не так в Багдаде было. Там подержала-подержала боль и отпустила. А эта лютовала в нём изо дня в день, так что от изнеможения и счёт дней начал для него размываться.
Но однажды пробрезжило освобождающее дуновение и он пропел слабыми губами, едва внятным голосом:
«О рекших мне "Внидем во дворы Господни " возвесели мя дух мой и сердце обрадовася».
Значит, решили, кто-то в видении посетил его и призвал.
Назавтра он самостоятельно поднялся с кровати, облачился во всё чистое. Захотел пробыть с братом и учениками целый день, и тихая радость смягчала черты осунувшегося лица. Радость освобождения слышна была и в голосе, когда выговорил:
«Отселе я ни царю слуга, ни кому другому на земли, но только Богу Вседержителю… Аминь».
Так он сказал — обликом своим, облачением, словами, — что желает принять иноческий постриг. На следующий же день состоялось таинство его посвящения в монашеский чин.
Был Константин.
Стал инок Кирилл.
Как и положено, ему строгий устав предписывал остаться на срок совсем одному — в ночном безмолвии, наедине с молитвами, которые обращал к Творцу своему.
То были молитвы особые, для вхождения души в строй иноческого бытия. Но были и молитвы, впитанные им ещё с родительских уст. И первая из них, самая малая, самая пре-скромная и самая, как теперь отсюда видит, великая, бесконечная в своей всегдашней настойчивости: Κύριε ελέησον! — Господи, помилуй!.. А рядом и молитва-благодарение, так часто людьми на радостях забываемая: Δόζα Σοι ο Θεός ηνών δόζα Σοι! — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Так, через молитву он издавна возлюбил язык, считавшийся в его кругу чужим. А теперь не может и дня прожить без него, молится и думает на нём…
Господи, Боже мой,
иже вся ангельские силы и бесплотные чины составил
и небо распростер, и землю основал,
и вся сущая от небытия в бытие привел,
иже всегда и везде слушал творящих волю Твою,
боящихся Тебе и хранящих заповеди Твоя,
послушай и моей молитвы
и верное Твое стадо словенское сохрани,
к коему меня приставил,
ленивого и недостойного раба Твоего.
Избавляя вся от всякой безбожной и поганской злобы
и от всякого многоречивого и хульного еретического языка,
глаголющего на Тя хулы,
погуби триязычную ересь
и возрасти церковь Твою множеством,
и вся в единодушии совокупив,
сотвори изрядны люди,
единомыслящие о истинной вере Твоей и правом исповедании,
вдохни же в сердца их слово Твоего учения, ибо они Твой дар.
Если нас приял, недостойных,
на проповедание им евангелия Христа Твоего
и наострившихся на добрые дела
и творящих угодное Тебе,
и если мне дал,
то Твои есть и Тебе их возвращаю.
Устрой же их сильною Твоею десницею,
покрой их кровом крыл Твоих,
да все они хвалят и славят имя Твое,
Отца и Сына и СвятагоДуха во веки. Аминь.
Так, в молитвенном сосредоточении прошло 50 дней после пострига. Не раз, наверное, вспоминалась ему в эти недели тишина Малого Олимпа, где провели они с Мефодием, может быть, самые радостные годы совместных трудов, потому что тогда ещё невозможно было вообразить, сколько же злоключений ждёт их именно из-за этих трудов, когда спустятся они со своей Горы.
Может быть, поэтому однажды, попросив Мефодия остаться с ним наедине, он вспомнил и Гору: «Были мы, брат, как два вола в одной упряжи, одну бразду тянули… И вот я на пахоте падаю, свой день скончав… А ты, знаю, так любишь Гору. Но не позволь себе ради нашей Горы оставить научение своё. Чем иным ещё спасёмся?»
Читать дальше
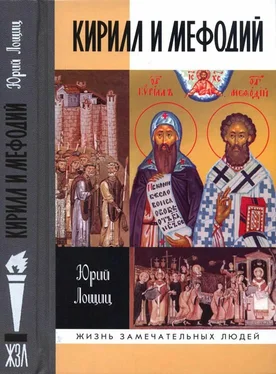





![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/195967/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3-thumb.webp)





