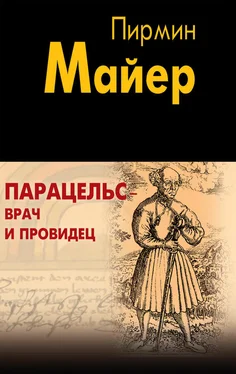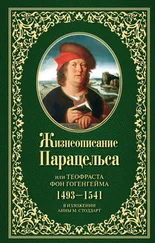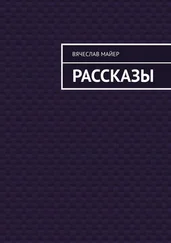1 ...6 7 8 10 11 12 ...196 Образный язык сочинения Гогенгейма не следует понимать как объяснение причинно-следственной связи и критиковать автора с позиций современного уровня естественнонаучного знания. Скорее здесь говорится о взаимосвязи двух символов, толкуемых с точки зрения временного «астрального» соотношения и одновременно с учетом того, что любой верующий понимает под конечной целью всех вещей. «Истинность» этой теории вступает в корреляцию с истинностью и правдивостью двух природных явлений. Ее нельзя рассматривать изолированно. Напротив, указанную теорию необходимо соотносить с человеком и его ощущениями, с коллективом и исторической ситуацией. Только тогда то, что кажется нам по-детски наивным, раскроется как выражение мифологического миросозерцания. В отдельных случаях нас, наоборот, поразит точность некоторых наблюдений, свойственная в большей степени следующему столетию.
Для Гогенгейма с его опытом и знаниями, его провидческим и даже пророческим характером, радуга стала образом, полным фантазии, красоты, смысла, и поистине великолепным зрелищем.
В концепциях и дополнениях к произведению «О метеорах», которые были в рукописном варианте представлены Иоганну Хузеру, первому издателю творений Парацельса, мы находим запись, относящуюся к 1589 году, которая, как представляется на первый взгляд, не относится напрямую к основной теме работы: «Рождение и становление радуги подобно рождению женщины» (XIII, 211). В конце сочинения объясняются феномены двойных и тройных радуг, названных в одном месте близнецами. Они сравниваются с двойняшками и тройняшками. Вырываясь за рамки проводимых аналогий, Гогенгейм пишет, что радуга в течение 40 недель развивается невидимо для человеческого зрения из особой «звезды, расположенной под твердью», до тех пор, пока в условиях «мягкой погоды» не пробьет час ее явления миру. Появляется «субтильная и нежная (радуга), которая порой очень быстро распадается». Краткосрочность полноценного периода этого небесного явления Гогенгейм сравнивает с краткостью человеческого существования, и следует заметить, что этот прием нередко встречается в его сочинениях. «Возьмем, к примеру, ребенка и столетнего старика, – пишет он, – неужели кто-либо полагает, что временное расстояние, существующее между ними, поможет кому-то из них избежать смерти?» (XIII, 212). В соответствии с ранними работами Гогенгейма его знаменитый «Парамирум» упоминает также и о «внутренних планетах» человека, находящихся в постоянном вращении, независимо от возраста последнего.
Созерцание радуги было для Гогенгейма не только источником натурфилософских открытий, но и настоящим наслаждением, которое с несвойственной стилю ученого нежностью выражено в его произведении. «Для чего нам потребны глаза и язык? …Для того чтобы посредством них восхвалялся Бог в своих творениях» (XIII, 212). Далее он сравнивает величие радуги с красотой цветов. В этом сравнении перед нами раскрывается парацельсистское восприятие удивления как начала всякой философии: «Смотрите же, какую прекрасную форму он (Творец) создал для роз и лилий. Эта форма не приносит никакой пользы, но лишь удивляет и поражает зрение» (XIII, 212). Человек рождается зрителем, а становится созерцателем! Здесь нет и следа целевого мышления, свойственного аристотелизму, которое господствовало в натурфилософии вплоть до эпохи Просвещения.
Беря начало из небесного лона, радуга подобна «цветку, который из себя рождает листочки и лепестки». Однако ее «корни» находятся не в земле, а «вверху, так что она должна расти вниз, отталкиваясь от своей почвы, а не стремясь к ней» (XIII, 213). Таким образом, радуга в изображении Гогенгейма предстает как звездное цветоложе. Небесная твердь в зеркальном отображении становится нашим небесным садом, населенным алхимиками и учителями sui generis [22] , а также их помощниками или таинственными пенатами. Последние наделены особыми силами и имеют духовную сущность. Составляя касту небесных художников и поэтов, эти радужные кобольды придают радуге ее алхимическую сущность (XIII, 205). Два или три солнца, появляющиеся порой на небе вместе с радугой, или аналогичное количество лунных светил, зафиксированные в «Саббате» Иоганна Кесслера 27-м февраля 1527 года, также следует считать делом их рук (KS, 243). Пенаты появляются «и употребляют свое умение» (XIII, 193) не только для того, чтобы предсказывать людям погоду, но и, как в случае с Содомом и Гоморрой, указывать на признаки духовного и физического вырождения. Уже в XX столетии представления такого рода были распространены в люцернской долине. Йозеф Цильманн, швейцарский исследователь народных обычаев, указывает, что самым широко известным признаком изменения погоды является артиллерийская пальба, устраиваемая накануне гномами и карликами. [23]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу