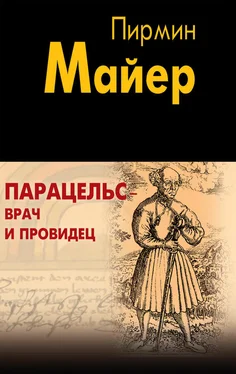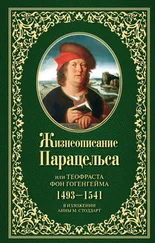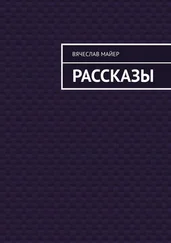К прочим восхвалениям природы в гогенгеймовских толкованиях псалмов прибавляется похвала медицине: «Медицина, развиваясь на земле, также славит Господа и исполняет его волю о нас. Ведь он хочет, чтобы медицина делала нас здоровыми и восстанавливала наши силы после болезни. Поэтому первой и самой главной молитвой врача должны быть следующие слова: Господи, научи нас узнавать добродетели, всеянные не только в нашу душу, но и в наше тело. Господи, помоги нам овладеть искусством медицины» (II, 4, 346).
Ничто из происходящего на земле не нарушает порядок творения, даже землетрясение, поскольку оно выталкивает на поверхность скрытые в земле богатства (II, 5, 18). Даже вороны и быки своим криком и ревом славят Господа. В восхваления Бога и творения порой вклиниваются грозные пророчески пассажи. Гогенгейм предвещает беды и несчастья тем людям, которые оскорбляют Бога, пользуются его творением ради удовлетворения своих страстей и обманывают ближних, извлекая из этого мнимую эгоистическую пользу для себя. «Все они будут уничтожены!» – грозно предрекает он (II, 4, 247).
К тем же, кто с благодарностью пользуется дарами Божьими для своего пропитания, целые дни проводит в работе, строит дома для ближних, «а не только для себя», делится с окружающими зерном, «а не набивает им жадно свой рот» и выращивает виноград «не только для собственной глотки», Гогенгейм обращает слова блаженной жизни: блажен ты, и все, что не пожелаешь, дастся тебе (II, 5, 18). На пути к блаженной жизни важную роль играют богословие и толкование Библии. При этом интеллектуальное развитие богословствующего человека в данном случае не имеет принципиального значения. «Я бы хотел обладать богословским духом… – пишет Гогенгейм. – Ведь, пытаясь урвать хотя бы малую толику богословского знания, я познал нищету, скорби и горе. Однако после этого мне только предстояло узнать, что для обладания богословским духом потребны еще большая серьезность, а также умение принимать голод и нищету без ропота и со смирением» (II, I, 64). Такое толкование Библии больше походит на духовную интерпретацию и довольно далеко отстоит от научно-филологического исследования. «Мы должны работать и творить, – читаем мы в одном из текстов Гогенгейма, – а не предаваться бесплодным спекуляциям… Изучение Библии требует согласования фраз и сентенций библейских текстов с духом Священного Писания» (PR, 158). В определенной мере эта рекомендация относится к молитве и внутренней «работе сердца» (II, 2, 78). Уточнить мысль Гогенгейма помогает одна сентенция папы Григория Великого: «Заповеди Божьи невозможно понять даже после их внимательного прослушивания. Настоящее понимание приходит только после их исполнения» [445] .
Это высказывание Григория Великого, к сожалению расходящееся с исторической действительностью, максимально приближено к толкованию Гогенгеймом понятия «католический». Как и Себастьян Франк, Парацельс принадлежал к духовным радикалам реформационной эпохи, которые, как о них говорили, ожидали «aliam ecclesiam magis pneumaticam» – другую, более высокую в духовном отношении церковь. [446]
Гогенгейм не ограничивался простыми теоретическими рассуждениями о Святом Духе. В истории развития христианской социальной мысли его социально-этические, социально-политические и социально-революционные трактаты могут быть названы законченными программами, которые так и остались нереализованными. Интересно, что в своей оценке войны и смертной казни Гогенгейм приближается к позиции анабаптистов. Что же касается уважительного отношения к работе и труду, то здесь мы видим его идейную близость с протестантской этикой в ее понимании Максом Вебером. Однако тут нельзя не заметить, что, в отличие от Вебера, у Парацельса отсутствует понимание социальной функции капитала. Любопытны его представления о четырехдневной рабочей неделе, наполненные классическими социалистическими иллюзиями и верой во всеобщее благосостояние, которое понимается как результат упорного, последовательного труда. С этической точки зрения обращают на себя внимание указания Гогенгейма на необходимость внутренней аскезы, особого состояния, побуждающего человека бережно относиться к плодам своей и чужой работы, осуждающего хвастовство и не допускающего излишеств. Это те этические представления, которыми руководствовались, к примеру, члены богатых семейств Шовингеров и Ваттов, даже если их огромное состояние и противоречило францисканско-парацельсистскому идеалу бедности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу