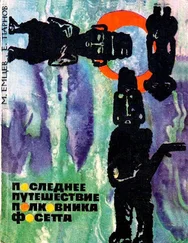«Ничего себе денек, — подумала Эльза, — ничего себе праздничек».
Едва Борис утих, явились Калныни. Пришлось почти насильно увести его в кабинет Яна, куда Анета принесла таз и кувшин с водой. Он уже не задыхался и не стучал зубами, но слезы лились сами собой. Всхлипывая и размазывая их по лицу, Борис оттолкнул предложенный Анетой кувшин и ничком бросился на диван. Только когда подошло время обедать, он оказался в состоянии выйти к гостям. Вначале сумрачный и неразговорчивый, он дичился и мрачно смотрел в тарелку. Но постепенно оттаял, а выпив пару рюмок кориандровой водки, настолько оживился, что даже затеял легкий флирт с Кларой. К вечеру он уже читал стихи: «Платанов замшевых кора, теней пятнистая игра, настойчивый и нежный плен бензина и духов „Герлен“».
Калнынь нашел, что это современно. Борис часто подолгу смеялся, и щеки его вспыхивали сухим, лихорадочным жаром. К Аспазии он в этот вечер так и не подошел. Только однажды, когда разговор зашел о самовыражении артиста, он спросил с едва уловимой ноткой вызова:
— Кто надоумил вас избрать столь одиозный псевдоним?
— Один толстый немецкий роман, — смущенно улыбнулась она. — Не читали «Аспазию» Гамерлинга? — Смутно было у нее на душе, тягостно.
Никогда еще Эдинбург и Майоренгоф, Бильдерлингсгоф и Ассерн, Карлсбад и Кеммерн не видели такого наплыва купальщиков. Поезда и пароходы каждый день привозили на залитый солнцем штренд «чистую», как писалось в газетах, публику, которая переполняла солярии, водолечебницы, увеселительные заведения и парки, где духовые оркестры лили в ночь щемящую грусть вальсов.
Но самым волшебным, самым заманчивым казался все-таки Дуббельн. Не мудрено, что, вняв рекомендациям губернских львиц, супруга Николая Александровича Звегинцева остановила свой выбор на нем.
Бархатные траурницы уже летали над клумбами, и вязкой горечью наливались коралловые гроздья рябины. Удивительным влажным блеском сверкала Венера над телеграфной проволокой вдоль железнодорожного полотна. Холодные ночи завораживали кристальной прозрачностью и пустотой. Казалось, что за кромкой пены вздыхает та самая бездна, которая столь упорно мерещилась философам и мистикам. С печальной нежностью искали друг друга руки среди сосен, где липла к лицу невидимая паутина. Кончался беспечный сезон купаний, но казалось, что с ним вместе кончается все. Не потому ли так спешили дышать и не могли надышаться хмельной горечью ненасытных, измученных губ? Бесценной явила себя мимолетная прелесть. Вестниками ее были желтые листья и скандальные адюльтеры. Прибой вышвыривал по утрам на песок бабочек и божьих коровок. И это тоже было напоминанием. Разве не поднялись они в небо по зову любви, но, унесенные ветром, сгинули навсегда? Как торопились в последний раз упиться грустным томлением скоротечного чувства в этот месяц, завершающий лето! Как тосковали о радости и как не находили ее! Надрывно, лихорадочно пролетали ночи над взморьем. Пьяный ветер и наркотический бред витали над курортными городками.
Месяц ушел на приятные хлопоты, связанные с обстановкой, обоями и неизбежной суетой переезда. Принимать гостей губернаторская чета начала только в августе. В числе первых приглашенных были местные тузы: начальник гарнизона Папен, ландрат Армитстед, господин Любек, полковник Волков, обер-полицмейстер, прокурор, германский консул и барон Мейендорф, который приехал на короткий срок из Петербурга. Время было тревожное, и, к превеликой досаде ее превосходительства, столпы лифляндского общества прибыли без жен, но зато с охраной.
Ничего не поделаешь. Губернатор тоже не ездил без вооруженного эскорта. Слева от него в коляску обычно садился чиновник особых поручений — Звегинцев привез с собой своего, — а насупротив располагались два агента в штатском; двое других охранников следовали сзади на лихаче, по бокам скакали драгуны. Николай Александрович находил такой порядок крайне для себя неудобным и даже унизительным, но молчаливо подчинялся суровой необходимости. Не нами заведено, не нам и менять. Беспечнее всех выказал себя Юний Сергеевич, который в гордом одиночестве приехал на великолепном караковом жеребце. Голубой мундир его был запылен и пропах конским потом. Кое-как приведя себя в порядок и надушившись одеколоном, он вышел к столу. Все было отменно. Новый чиновник ему понравился. Не то, что тот либеральный чистоплюй. Юний Сергеевич поймал себя на том, что с уходом Сторожева тайная ненависть не погасла, а, напротив, окрепла, отлилась в законченные формы. Само существование подобных субъектов бросало вызов стройной системе моральных ценностей и незыблемого порядка, в которые так верил он, Волков. Интересно, где сейчас этот фат?
Читать дальше
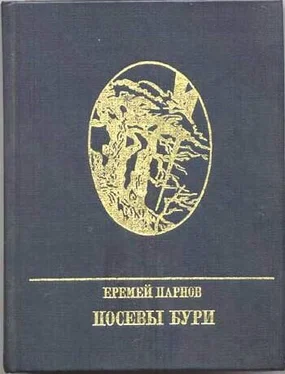


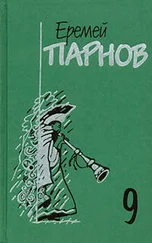
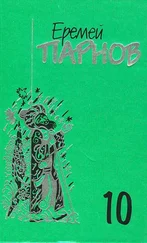
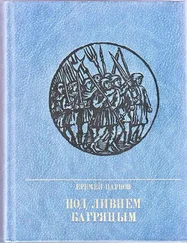
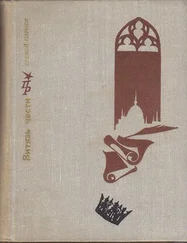


![Еремей Парнов - Звезда в тумане [Улугбек. Историческая повесть]](/books/418981/eremej-parnov-zvezda-v-tumane-ulugbek-istorichesk-thumb.webp)