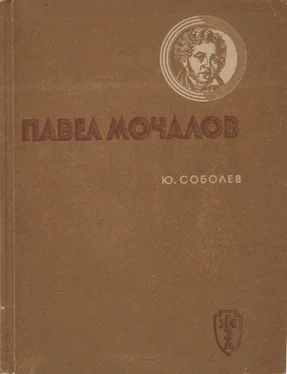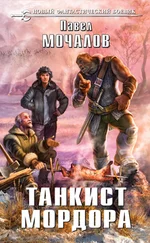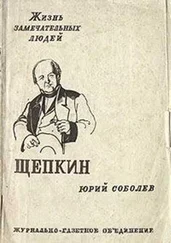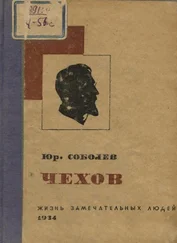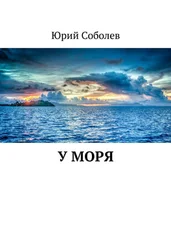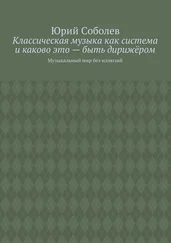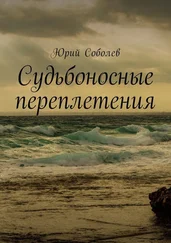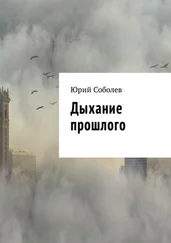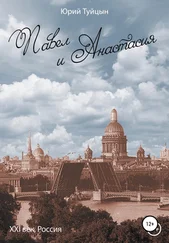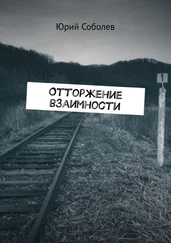«Мы ленивы и нелюбопытны». Эти мудрые пушкинские слова полностью применимы и к прошлому изучению жизни и творчества Мочалова. Прежние исследователи удовлетворили свое познание о нем тем, что в подробностях познакомились с рассказами о загулах Мочалова и поленились изучить подлинную историю его творческой жизни.
«И меж детей ничтожных мира» случалось и Моча-лову бывать ничтожней всех, но это бывало лишь в печальные дни того страшного недуга, которым он страдал почти с юных лет. И слишком часто то, что было лишь выражением болезни, принималось за сущность Мочалова. А вот одной черты— и чрезвычайно выпуклой в мочаловской природе — так и не заметили: какой-то особенной чуткости его к малейшим уколам самолюбия. Он был горд и хотел постоянно сохранять независимость образа своих мыслей, суждений и поступков. Это не всегда ему удавалось в тех страшных социальных условиях, в каких он жил. Его гордость страдала каждый раз при соприкосновении с теми, от кого хотел бы он отмежеваться своей независимостью.
Кто он был — этот великий трагик? Сын крепостного, отпущенного барином на свободу и записавшегося в купеческую гильдию. Профессиональный актер, то есть человек, отнесенный в ту эпоху едва ли не па последнюю ступень социальных отношений. Это и было гранью, навсегда отъединившей Мочалова от «приличного» общества. И разве не почувствовал Мочалов некоего барского к себе отношения у тех самых «благодетелей», которые за свой счет отправляли его в Париж?
Продолжим рассказ о сценической юности Мочалова. Впрочем, как-то трудно разбить биографию Мочалова на обычные куски: юность, зрелость, старость. Трудно это потому, что на протяжении всех тех тридцати лет, которые Мочалов отдал театру, он по существу остался на всех этапах почти таким же, каким вошел на сцену в вечер своего триумфа в сентябре 1817 года. Разумеется, вырастал его талант, укреплялись основные черты его творчества, — но самое важное, самое глубокое, самое яркое в его артистической натуре почти полностью было уже раскрыто в первых же его созданиях — со всей ослепительностью великого дара и со всей очевидностью его органических недостатков. Не будем ставить себе, поэтому, целью строгую хронологическую последовательность рассказа. Важнее остановиться на тех сценических образах Мочалова, в которых раскрывается подлинно «мочаловское».
Представим себе внешний облик Мочалова той поры, когда он был еще в полной силе своего могучего дара.
Большая голова с черными вьющимися волосами, красиво поставленная на широкие плечи. Замечательно развитая грудь, античный торс — любой скульптор мог бы выбрать его моделью. Черные глаза его, восклицает один современник, были выразительны донельзя. Но главным украшением был чудный его голос: тенор, мягкий и звучный, нежный и сильный. Переходы и переливы голоса были разнообразны и красивы. Его шопот бывал слышен в верхних галлереях театра, его голосовые удары заставляли невольно вздрагивать. Он был среднего роста, фигура его была так же подвижна, как и лицо. В страстные минуты он вырастал, казался высоким и стройным.
Как определить то, что могло бы раскрыть самое важное, «мочаловокое», в природе его сценического творчества? Думается, что таким основным свойством, резко выделяющим его из современного ему сценического окружения, является органическая неспособность Мочалова играть ровно на протяжении всего спектакля. Знаменитые «мочаловские минуты» — те вспышки необычайного эмоционального подъема, которыми он так потрясал, — как раз и свидетельствуют об этом. «Минуты» могли быть очень короткими— две-три вспышки на протяжении всего представления;, могли быть и очень длительными — почтя весь спектакль иногда проводился вдохновенно. Но всегда «почти»; полностью, одинаково ровно и одинаково блестяще с первого до последнего акта — никогда.
А минуты — «мочаловские минуты» — сколько сказано о них у одного только Белинского! Когда мы подойдем к рассказу о шекспировских ролях Мочалова, и в первую очередь о роли Гамлета, мы прочтем такие слова восхищения, которые могут вырваться только у зрителя, потрясенного до глубины души. Да какого зрителя — Виссариона Белинского!
Очень взволнованно скажет о мочаловских минутах такой влюбленный в мятежный гений артиста критик, каким был Аполлон Григорьев:
Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названия нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила,
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.
Читать дальше