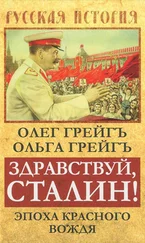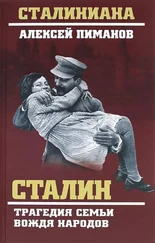Но не только монопольное право на «высокое теоретизирование» поддерживало авторитет вождя. Сталин действительно был начитан, обладал хорошей памятью, умел коротко и афористично высказывать свои мысли. Как правило, Сталин готовился к деловым собраниям и благодаря этому мог поразить собеседника неожиданным знанием деталей. Это производило большое впечатление. Одним из важных источников информированности Сталина были сведения, которые он получал во время многочисленных встреч. Сталин умел слушать и использовать услышанное. Неоднократно встречавшийся с вождем в начале 1930-х годов главный редактор «Известий» И. М. Гронский оставил такие наблюдения: «Он вызывал нужных ему людей, как бы случайно затевал разговор и незаметно вытягивал из собеседника все, что тот знал. Обладая феноменальной памятью, он запоминал всю полученную по конкретному вопросу информацию и в последующих беседах дельно высказывался, цитировал книги, которых не читал, словом, производил впечатление знающего человека. Пользоваться знаниями других людей, переваривать их и выдавать за плод работы собственного ума – всем этим Сталин обладал в совершенстве» [395].
Очевидно, что каждое слово Сталина приобретало особый вес прежде всего потому, что это было слово диктатора, обладавшего огромной властью, вызывающей одновременно и ужас, и священный восторг. Со временем он выработал и внешние манеры мудрого арбитра. Во время совещаний он не смешивался с массой заседавших, а прогуливался с трубкой в руках. Под завороженными взглядами присутствующих он рассуждал вслух, словно взвешивая решения. Публично Сталин никогда не говорил о себе как об особенном или великом человеке. Достаточно было и того, что об этом во все трубы, доходя до абсурда и истерики, грохотала официальная пропаганда. Осознавая значение «скромности» для подчеркивания величия, Сталин представлял себя лишь учеником Ленина, слугой партии и народа. Все проявления этой «скромности» были тщательно продуманы. Сталин демонстрировал смущение и даже возмущение бурными аплодисментами, неизменно встречавшими его появление. Пересыпал свои речи извинительными фразами и панибратскими шутками. Некоторым из своих посетителей на даче Сталин помогал снять одежду. Сам же, прибыв на прием, устроенный Мао Цзедуном в Москве в январе 1950 г., поздоровался с гардеробщиком, но отказался от его услуг. «Благодарю, но это, кажется, даже я умею», – сказал Сталин, снял шинель и повесил ее на вешалку [396]. Напускная скромность, впрочем, не мешала Сталину «по достоинству» оценить самого себя. В 1947 г. он лично отредактировал собственную официальную биографию и вписал в текст такие фразы: «Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования». Общий тираж этой биографии вождя составил 13 млн экземпляров [397].
Важным условием удержания власти Сталин, несомненно, считал внушение непогрешимости своей политики. Он редко признавал допущенные просчеты вообще, а когда признавал, никогда не называл их своими. Ошибочные решения и действия приписывались «правительству», чиновникам или чаще всего проискам «врагов». Принцип личной ответственности за провалы Сталин категорически отвергал. Себе он приписывал только достижения. Неограниченная власть не могла не развить в Сталине, как и в других диктаторах, веру в свои особые качества и способность предвидения. Однако, в отличие от Гитлера, который был настроен мистически, представления Сталина о личной непогрешимости вытекали скорее из его подозрительности и страхов. Он был уверен, что может полагаться только на себя, потому что вокруг слишком много врагов и предательства. В отдельные моменты эта политическая паранойя достигала масштабов невероятных трагедий, как, например, в 1937–1938 гг.
Сталин, Ежов и массовые операции НКВД
Судя по многим фактам, в 1936–1937 гг. Сталин окончательно утвердился в мысли, что партию и страну в целом необходимо подвергнуть массовой и жестокой чистке. Причем на этот раз речь шла даже не об изоляции «врагов» в лагерях, но об их окончательном физическом уничтожении.
Новый импульс репрессиям придал первый московский открытый процесс над лидерами бывших оппозиций в августе 1936 г. Подсудимые Каменев, Зиновьев и другие известные деятели партии после долгих пыток были объявлены «террористами» и «шпионами» и расстреляны. Вскоре после этого суда Сталин назначил Ежова наркомом внутренних дел. Под руководством Сталина Ежов начал подготовку новых процессов и усилил чистку аппарата. В январе 1937 г. был проведен второй открытый московский процесс, на этот раз над бывшими оппозиционерами, занимавшими руководящие должности в хозяйственных ведомствах. Их также обвинили во «вредительстве» и «шпионаже». Соратники Сталина, скомпрометированные связями с вымышленными «врагами», подчинились силе. Один лишь Орджоникидзе продолжал защищать своих сотрудников от арестов. Между Сталиным и Орджоникидзе возник конфликт, завершившийся самоубийством Орджоникидзе [398]. Этот акт отчаяния лишний раз показывал, что члены Политбюро не могли ничего противопоставить Сталину, опиравшемуся на силу карательных органов. Соратники вождя, не говоря уже о функционерах среднего уровня, были разобщены. Каждый надеялся спастись в одиночку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
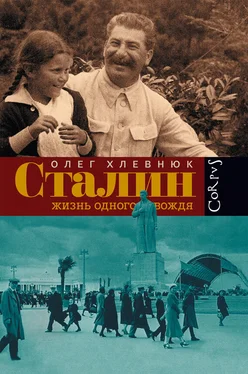
![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/32541/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya-thumb.webp)
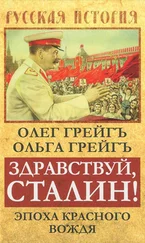

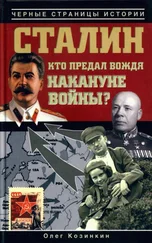


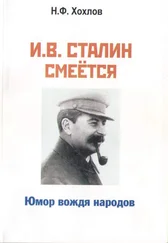
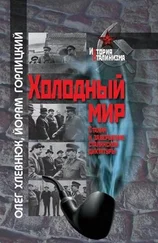

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)