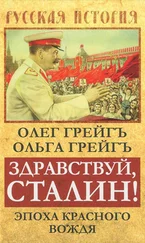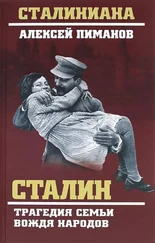Чрезвычайно тяжелыми были условия труда на советских промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Неразвитая в силу общей нищеты система материального стимулирования заставляла прибегать к методам репрессивного принуждения к труду. Наиболее откровенно рабский по своей сути труд использовался на предприятиях ГУЛАГа. Однако формально свободные рабочие и колхозники также трудились в значительной степени из-под палки. Набор рабочей силы в промышленность, особенно в наиболее неблагополучные и опасные для жизни отрасли, осуществлялся при помощи насильственных мобилизаций молодежи. Уклонение от мобилизаций каралось заключением в лагеря. С 1940 г. при помощи чрезвычайных трудовых законов рабочие прикреплялись к своим предприятиям. Крестьян, которым почти не платили за труд в колхозах, привлекали к суду, если они не вырабатывали обязательных норм трудодней. Всего в 1940–1952 гг. за самовольный уход с предприятий и опоздания, уклонение от мобилизаций в промышленность и сельское хозяйство и невыполнение колхозных норм было осуждено около 17 млн человек [941]. Эта огромная цифра, лишь в некоторой мере отражавшая истинные масштабы нарушений трудовой дисциплины, говорит о том, какова была реальная цена утверждений советской пропаганды о беззаветном энтузиазме трудящихся СССР.
Между полюсами преданности режиму и недовольства лежала огромная, абсолютно преобладающая зона повседневного безразличия и внешней лояльности. Лишь в некоторой степени откликаясь на пропагандистские влияния, маскируясь и увертываясь от прямых ударов террора, значительная часть населения придерживалась традиций и обычаев. Несмотря на мощный антирелигиозный пресс государства и массовые репрессии против священнослужителей и церковных активистов, большинство жителей страны оставались верующими. Перепись населения в январе 1937 г. показала, что среди граждан СССР в возрасте 16 лет и старше приверженцами религии объявили себя 57 % (более 55 млн человек). И это при том, что часть верующих, опасаясь преследований, скрывали свои истинные убеждения [942].
Чувствительным и опасным для многонационального Советского Союза было сталинское наследство в сфере межнациональных отношений. Период относительного национального либерализма большевиков, строивших первоначально, по определению Т. Мартина, «империю положительной деятельности», завершился в начале 1930-х годов [943]. При Сталине национальная политика становилась все более репрессивной. Массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, депортации целых народов, унификация и русификация закладывали под здание СССР мины большой разрушительной силы. Первые взрывы наблюдались уже при Сталине. В Западной Украине и балтийских странах полыхала ожесточенная партизанская война. За фасадом официально пропагандируемой «дружбы народов» (отрицать которую полностью также было бы неправильно) скрывались многочисленные межнациональные конфликты [944]. Обострялся «русский вопрос», отражавший противоречивое положение русского большинства (опоры и жертвы советской империи) и, по мнению Дж. Хоскинга, в конце концов разрушивший СССР [945].
Что знал Сталин об этих проблемах, о реальной жизни «своего» народа? Лидер албанских коммунистов Э. Ходжа, посетивший Москву в 1947 г., запомнил такие слова Сталина: «Чтобы уметь руководить, надо знать массу, а чтобы знать ее, надо идти в массу» [946]. Однако сам Сталин вряд ли следовал этому принципу. В массы он не ходил. После известной поездки в Сибирь в 1928 г., во время которой, впрочем, Сталин заседал преимущественно с местными функционерами, он практически не выезжал «в народ». Официальные встречи с «представителями трудящихся» были тщательно подготовленными пропагандистскими спектаклями. Случалось, что склонный к театральным эффектам Сталин в лучшие моменты своего правления неожиданно появлялся на людях. Однако и такие случайные встречи и импровизации неизбежно приобретали форму «явления вождя народу».
В сентябре 1935 г. Сталин в компании других руководителей страны путешествовал по окрестностям Сочи. Здесь они столкнулись с небольшими группами отдыхающих. По инициативе Сталина состоялось своеобразное «братание». Яркое описание этой сцены оставил один из курортников:
[…] тов. Сталин […] остановил нас следующими словами: «Почему уходите, товарищи? Почему такие гордые, гнушаетесь нашего общества. Подойдите сюда. Откуда вы?» Мы подошли […] «Ну, давайте знакомиться», – сказал тов. Сталин, поочередно познакомил нас с каждым из своих спутников и сам познакомился. «Это товарищ Калинин, это жена товарища Молотова […], а это я, Сталин», – сказал он, пожимая всем нам руки. «Будем теперь все вместе сниматься», – и товарищ Сталин пригласил нас стать возле него […] Товарищ Сталин, пока фотографы работали, все время подшучивал над ними: сказал, что они «смертельные враги» и друг другу всегда стараются помешать; просил снимать не только его, но «весь народ» […] Затем тов. Сталин стал приглашать сниматься продавщицу яблок из киоска […] и продавца из буфета. Смущенная продавщица долго не выходила из своего магазина. Товарищ Сталин сказал ей, что «нехорошо быть такой гордой», и предложил фотографам не снимать, пока она не подойдет. «Продавщица, – заявил тов. Сталин, – должна стать самой уважаемой женщиной в нашей стране». Та, наконец, подошла, и съемка продолжалась. Подошел пустой автобус […] Товарищ Сталин пригласил сниматься шофера и кондуктора […] [947]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
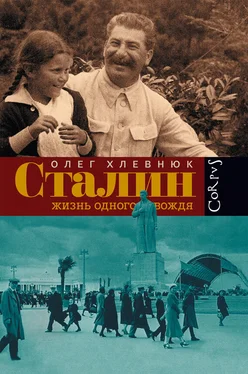
![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/32541/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya-thumb.webp)
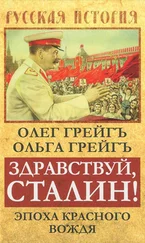

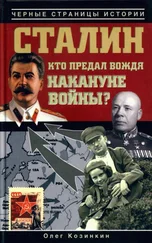


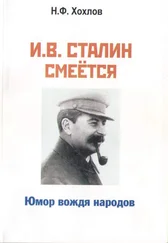
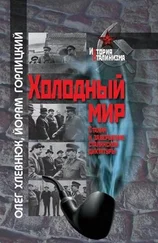

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)