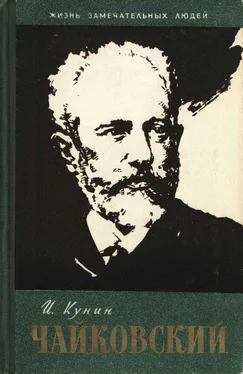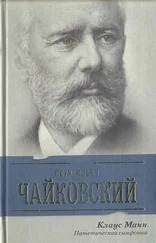Живую зарисовку Петра Ильича в кругу балакиревцев мы находим в одном письме Стасова. «Балакирев притащил вчера Чайковского с собой к Людмиле Ивановне [62] Шестаковой, сестре М. И. Глинки, находившейся в самых дружеских отношениях с балакиревцами.
, — пишет он 19 мая 1870 года, — весь вечер шла музыка, и Милий был блестящее, чем когда-нибудь… Играл он… «Исламея» так, как, кажется, никогда еще в жизни не играл… Чайковский тоже много исполнял своего, Мусорянин [63] Мусоргский.
пел «Классика» [64] Уморительная музыкальная шутка, высмеивающая Фаминцына, его вкусы и антипатии.
, «Бориса Годунова» и т. д. Вообще вечер вчерашний был просто чудесный… Но вы не можете себе вообразить, что за странность; вы, кажется, уже знаете, какая прелесть его увертюра к «Ромео и Джульетте»,—
Милии всю зиму играет нам ее наизусть, и не проходит ни одного нашего собрания (у Людмилы Ивановны), чтоб мы ее не потребовали, — представьте же себе, что эту страстную, бесконечно тонкую и элегантную вещь сам автор играет какими-то жесткими, деревянными пальцами, так что почти узнать нельзя. Мы хохотали над ним, а он уверяет, что был беспокоен и трусил (!) компании, перед которою находился. Разумеется, хохот и насмешки удвоились. Он играет эту чудную свою вещь так же карикатурно, как Бородин свое «Море» [65] Романс Бородина, посвященный В. В. Стасову и особенно им ценимый.
. Непостижимо».
Это общество нетерпимых, колюче-требовательных и одновременно, как легко могло показаться со стороны, наивно самоупоенных своим направлением музыкантов неизменно притягивало Чайковского. Что влекло его к ним, таким не похожим на него даже манерой поведения, категоричностью высказываний, едкой насмешливостью, а порою и явным пренебрежением к условным правилам вежливости?
Сейчас, в середине XX века, грандиозное явление «Могучей кучки» видится нам во всей своей силе и славе. Одни черты при этом сгладились и затушевались в историческом далеке, другие, более крупные, получили в перспективе десятилетий еще более рельефные очертания. Не следует думать, что этот процесс закончился и образ, о котором идет речь, отныне останется неизменным и неподвижным. Еще не раз, по мере отдаления и в свете нового общественного и художественного опыта, будут меняться соотношения частей, и «Могучая кучка», словно горный кряж, будет вздыматься все так же величаво, но видимая под иным углом, в другом освещении, в соседстве с новыми массивами и вершинами музыкального творчества. И все же главное, кажется, уяснилось. «Могучая кучка» — это родные, навсегда сохраненные в музыке картины природы: лесная прохлада керженских лесов, ранняя, студеная весна «Снегурочки», теплая, благоуханная майская ночь и знойный полдень Украины, бескрайный, томительно однообразный и томительно влекущий простор степей и пустынь юго-востока. Это светлые, добродушно-величавые, несказанно могучие облики стародавних богатырей. Это сочные, чисто гоголевским юмором проникнутые, правдивые сцены народного быта, еще небывалые в музыке, и гоголевским страдальческим сарказмом отзывающиеся, щемящие картины темноты и забитости порабощенного трудового люда. «Могучая кучка» — это гениально схваченные и гениально воспроизведенные в музыке образы русских людей, почти осязаемые в своей непостижимой жизненности и неподдельности, — Варлаам и Юродивый, Досифей и Марфа, простодушные гудошники Скула и Брошка, псковитянка Ольга и Грозный царь, Любаша и опоенная отравой «царская невеста» Марфа… — целая галерея без времени гибнущих или односторонне развившихся, но полных неизрасходованной силы существ, живое свидетельство безмерной одаренности полузадушенного, но — не раздавленного многовековым гнетом народа… «Могучая кучка» — это светлый мир русской сказки, сурово-тяжеловесный старинный склад былины и пестрый, прихотливый, пламенный полет восточной фантазии.
Если попытаться уловить самый характер художественного мышления, определивший отличительные черты балакиревской школы, мы решились бы произнести слово «эпос», метко объясненное когда-то Максимом Горьким как «лирика целого народа». Это не личная, не субъективная, а как бы окристаллизованная и отшлифованная веками «лирика» проникает народные музыкальные драмы Мусоргского, оперы и симфонические поэмы Корсакова, богатырскую оперу и богатырские симфонии Бородина, она заметно окрашивает симфонические произведения Балакирева и его огневой «Исламей».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу