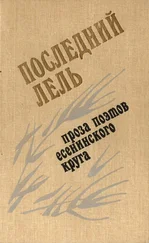– Много написали и наговорили о Есенине – и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий… – перебивает Иванова Илья Шнейдер.
Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.
Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.
Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок… Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом…».
Так что и здесь мнения расходятся. Полагаю, всякое бывало. К сожалению, Айседора, так и не успела закончить свои мемуары, не успела рассказать о Есенине. Вот и приходится собирать его портрет по кусочкам, крохотным фрагментам воспоминаний, разноцветным стеклышкам мозаики…
О внешности Сергея Есенина и Айседоры Дункан, точнее о перемене во внешнем образе, взрослении и манере держать себя, блистательно рассказывает Максим Горький. Его воспоминания особенно ценны для нас уже и тем, что писатель не ограничивается обычным бытоописанием, а придает произведению яркую эмоциональную окраску. Особенно это относится к описанию Айседоры Дункан, которую он терпеть не мог. И которую считал недостойной такого гения, как Сергей Александрович: «Дункан являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно». Для нас это важно, так как подобную характеристику этим двоим в России давали многие, невольно сравнивая одиозную пару, что не могло не давить главным образом на Сергея Есенина, который, в отличие от Дункан, понимал каждое слово и не мог не обижаться за любимую женщину. Но давайте же послушаем, что скажет нам сам Максим Горький:
…Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году [44] , где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати – семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы трое шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов: Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древнего благочестия».
Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью на Симеоновском, и видел, как он сквозь зубы плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.
А вот как описывает встречи с Есениным в 1917 году (Есенину 23 года) супруга Алексея Толстого [45]Наталья Крандиевская-Толстая [46]:
– У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.
Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.
Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.
На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.
– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу