Иванову предстояло доставить в Петербург огромный холст. Обойтись в этом деле без помощи официальных кругов было невозможно. Теперь, когда картина была готова и он просил не денег, а лишь содействия, гораздо легче было найти себе покровителей. Но художник продолжал испытывать отвращение к академическому начальству.
Еще в Париже он встретил конференц-секретаря академии В. И. Григоровича, который в свое время испортил ему столько крови своим равнодушием и так расхолаживал его, называя замысел «Явления» «пустой мечтой». Теперь Григорович не прочь был возобновить дружбу с художником и предлагал Иванову ехать вместе с ним из Парижа в Рим. Однако Иванов уклонился от этой чести.
В Риме Григорович напустил на себя важность. Русским художникам, которые явились к нему, он заявил: «Господа! Я требую, чтобы во все время моего пребывания здесь вы по очереди у меня дежурили». Но Иванов сделал вид, что это предписание не касается его. Тогда Григорович сам лично явился к нему в студию на Виколо дель Вантаджо. Однако двери ее по обыкновению оказались запертыми. Григорович явился во второй раз — снова безрезультатно. Взбешенный таким невниманием к своей особе, Григорович пишет на дверях студии, что уже два раза пытался застать художника, и просит его допустить. Однако и это обращение не возымело действия. Тогда Григорович отыскал Л. О. Смирнову, близость которой к художнику была известна, и стал жаловаться ей, взывая к тому, что он помнит и ценит его с тех лет, как он был еще мальчиком. Смирнова быстро нашлась, заявив, что даже ее Иванов не пускает к себе в студию. Пришлось конференц-секретарю дожидаться того дня, когда перед отправкой картины художник откроет двери студии для всех посторонних. Впрочем, и на этот раз Иванов не был особенно гостеприимен по отношению к петербургскому сановнику. Пока народ толпился в студии, он находился на лестнице и за недосугом пообедать закусывал на ходу ломаными кусками хлеба, которые вытаскивал из кармана. Григорович поймал его за этим занятием и стал изливаться в своих чувствах, взывал к прежней дружбе и обещал содействие. Иванов сдержанно выслушал его, довольный тем, что Григорович собирался остаться в Риме и что этим он будет избавлен от его общества в Петербурге.
Выставка картины Иванова обратила на себя внимание. В течение десяти дней в студии толпился народ. Сам патриарх немецкой колонии художников Овербек, хотя и разочарованный тем, что русский художник пошел своей собственной дорогой, должен был признать его достижения. Корнелиус дал ему руку и признал его большим мастером: «Un valoroso maestro». В остальном нужно сказать, что в 1858 году в Риме не было значительных русских и зарубежных художников, способных оценить картину и найти этому произведению достойное место в истории искусства.
В последние месяцы своей жизни в Риме Иванову все чаще приходилось иметь дело с высокопоставленными особами, от которых зависела дальнейшая судьба его картины. Сколько раз ему с величайшим трудом удавалось получить согласие на посещение его студии «высочайшими гостями», но в последнюю минуту ему приносили короткую записку с сообщением, что его императорское высочество не может быть в студии, так как после прогулки чувствует себя несколько утомленным.
Иванов отдыхал душой только среди близких ему и далеких от этих великосветских кругов людей. В Риме у него было несколько знакомых домов, о которых он сохранил светлую память и позднее, покинув Италию. Он близко подружился с будущим замечательным физиологом Сеченовым, тогда еще начинающим ученым, который по просьбе художника выполнял для него переводы и производил библиографические изыскания. Но больше всего он был привязан к брату Сергею, и в беседах с ним был более всего откровенен.

«Ветка». Конец 1840-х годов.
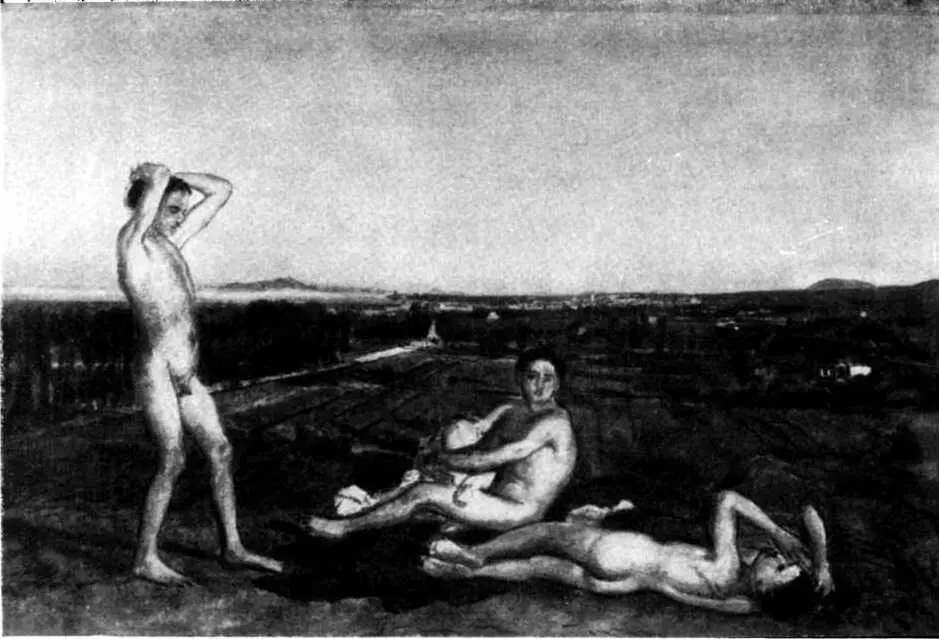
«На берегу Неаполитанского залива». 1850-е годы.
Сергей с неспокойным сердцем отпускал своего брата в Петербург. Узнав о том, что брата его собираются отблагодарить за весь его труд пожизненной пенсией, он не может сдержать своего возмущения. «Они тебя производят в инвалиды, — пишет он, — это похоже на насмешку». Он уговаривает брата с самого начала заявить в Петербурге, что он не участвует ни в каких обедах, ибо присутствовать и не есть было бы из рук вон глупо». Но больше всего заботил Сергея прием, который могли устроить Иванову официальные академические круги. «Может быть, тебя будут нянчить, хвалить. Пожалуйста, не поддавайся! Карл Павлович именно потому и испортился, что поддался этому щекотливо приятному пению». И он дружески выговаривает брату обычную его нерешительность.
Читать дальше
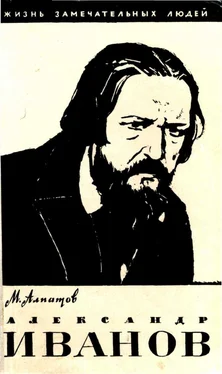

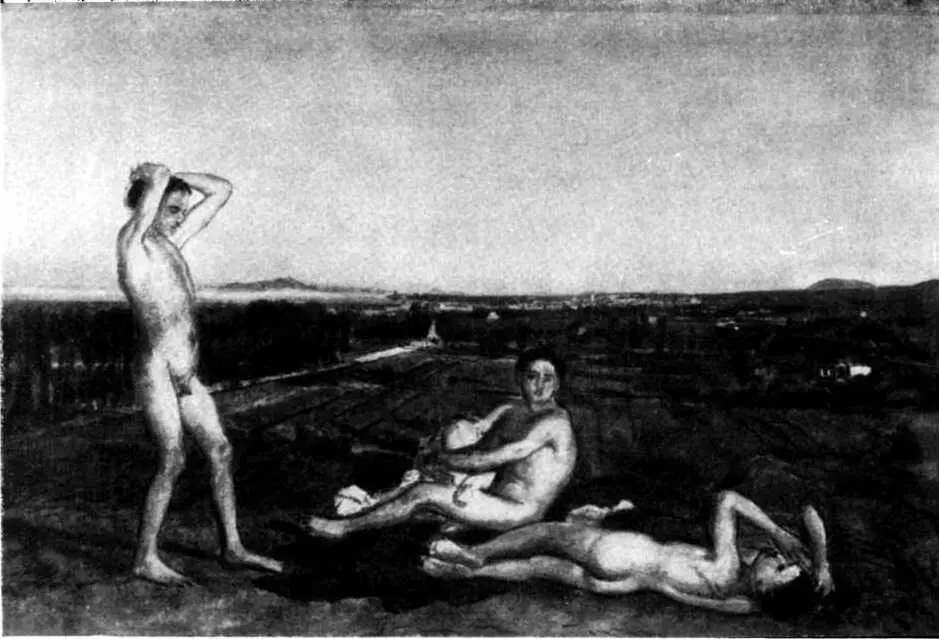

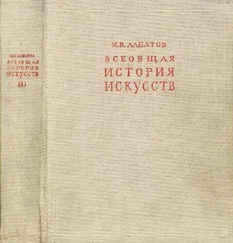
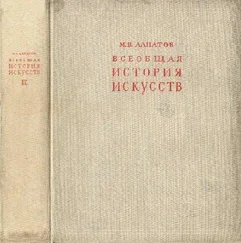
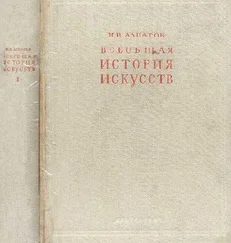



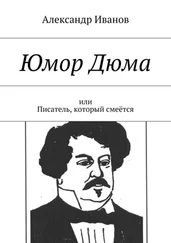
![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)


