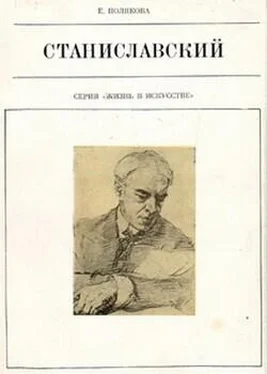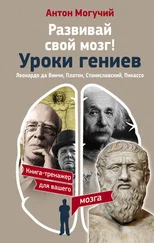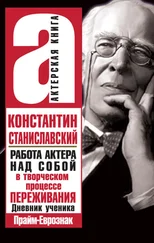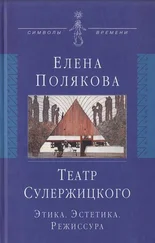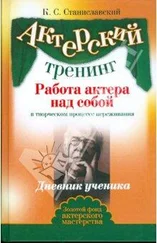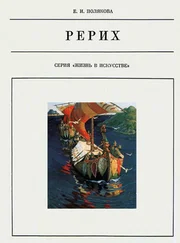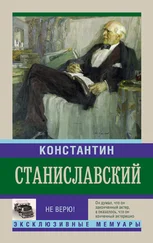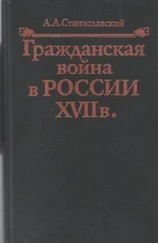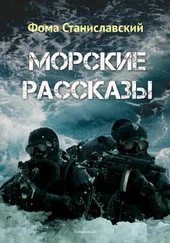Павел Александрович Марков свидетельствует: «Его никогда не покидало уважение к другим деятелям театра, хотя бы и иного театрального направления. Не соглашаясь с деятельностью Камерного театра, он сохранял неизменную дружбу с А. Я. Таировым, ценя в нем его талант и искреннюю, подвижническую любовь к театральному искусству. Чрезвычайно сложно было его отношение к В. Э. Мейерхольду. Он проявлял крайний интерес к его опытам первых революционных лет, но никогда не уступал ему своих творческих позиций. Скорее всего, он относился к нему как к строптивому, талантливому, но заблуждающемуся ученику… Не удивительно, что Станиславский первый протянул дружескую руку Мейерхольду в трудные для него дни и предложил вступить в руководимый им оперный театр, неизменно веря в талант Мейерхольда и будучи убежденным, что и Мейерхольд хочет вновь у него учиться, о чем Мейерхольд и заявлял неоднократно, особенно в последние годы».
Они работают вместе, и в этой совместной работе нет компромисса. Станиславский и Мейерхольд стремятся к созданию идеального театра, увлекающего и воспитывающего зрителей. Различны их пути к этому театру, однако различие и поддерживало постоянный взаимный интерес. Интерес не умалился — возрос во время работы Мейерхольда в театре Станиславского. Он ставил оперу «Риголетто» по режиссерскому плану Станиславского, внося в постановку и свое отношение к образам, свою отточенность в решении мизансцен. Возможно, что это содружество, если бы оно продлилось, вписало бы новую, важнейшую страницу в историю театра. Но и недолгая совместная работа Станиславского — Мейерхольда стала прекрасной театральной легендой, примером истинной помощи и истинной жизни в искусстве.
X
Поиски «окончательной истины» с годами все напряженней. Болезнь Константина Сергеевича не прерывает работы, новые варианты глав будущей книги записываются в тетрадки, которые лежат поверх белейшего одеяла.
Грипп, сердечные приступы, перебои пульса, боли — и продолжается ежедневная работа с актерами и режиссерами Художественного театра и Оперного театра. Работа с учениками новой, Оперно-драматической студии. В сентябре 1935 года Мария Петровна пишет: «Константин Сергеевич нашел себе новое дело и новую заботу: открыл школу оперную и драматическую, вчера было открытие. Молодежь подобралась очень хорошая: что-то будет дальше». В начале тридцатых годов Станиславский продолжает мечтать о создании «театральной Академии», где будет осуществляться «углубление и поднятие театрального мастерства», из которой будут выходить не отдельные выпускники, но целые коллективы-ансамбли, воспитанные в единых принципах, обладающие большой и целостной культурой. Ансамбли должны направляться в провинцию с готовыми спектаклями, вокруг них будет группироваться театральная молодежь. В «Академии» должна претвориться старая мечта о «Пантеоне», о преобразовании всего театрального искусства. Мечта осуществляется в рамках реальности — в 1935 году в Москве открывается еще одна студия, в которой испытывается и совершенствуется «система». Ученики ежедневно приходят в Леонтьевский переулок — в «онегинском зале», в репетиционных комнатах с ними занимается Станиславский или преподаватели. Зинаида Сергеевна Соколова увлечена работой с братом, ведет занятия по его записям, когда он болен.
Образование «Академии» — цель, работа в студии — приближение к этой цели. Студийцы увлеченно работают над этюдами: две девушки после долгой разлуки возвращаются в родной дом; рабочие собирают урожай яблок в саду; «зверинец» прогуливается по сцене — лев, верблюд, жираф, изображенные людьми, которые передают повадки животных. Студийцы изучают элементы «системы», приемы, которые предлагает Станиславский. Они увлеченно «тататируют» — так называет Станиславский метод проигрывания этюдов или даже эпизодов из пьес без текста. Вам может быть дано задание — сыграть сцену встречи Софьи и Чацкого или первую сцену «Ревизора», не произнося авторский текст, заменяя его неким «та-та-та» — действуя лишь по физическим действиям.
Мария Петровна уверяет, что она никогда не поймет «тататирования», Константин Сергеевич уверяет, что понять необходимо, — это его последнее открытие. Потом он охладевает к открытию, оно уходит из практики, через некоторое время Станиславский сердито спрашивает — «Кто это придумал?».
Так часто бывает с ним. Он увлекается какой-то стороной творческого процесса, на ней сосредоточивается, ее наблюдает, ее развивает — затем переходит к иному ракурсу, к иным находкам. Неизменным остается в последние годы, не проходит, но крепнет и развивается обращение к первоначальности, основе работы над образом — к физическим действиям.
Читать дальше