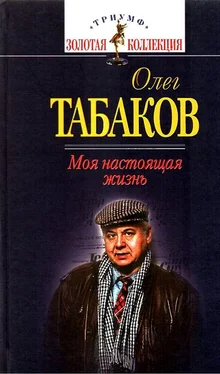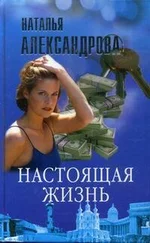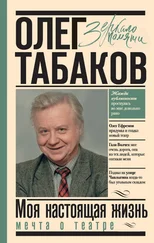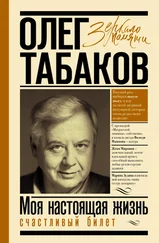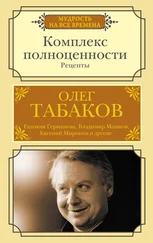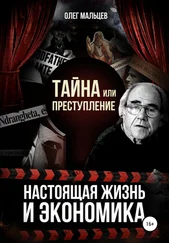Мне кажется, она всегда немножко жалела меня — очень по-русски…
Помню, как пару раз, находясь в состоянии алкогольного возбуждения, она встречала меня во МХАТе и совершенно по-детски, одновременно с каким-то русским бабьим причитанием, говорила о своей любви ко мне. По сути дела, это было — «возьмите меня к себе». По-другому ее слова невозможно было трактовать. И доводила меня до слез, потому что я никак не мог на это отозваться. Взять ее в подвал на Чаплыгина из МХАТа? В то время у меня не было возможности предложить ей серьезную работу, а ведь во МХАТе она играла тогда очень много. Причем роли главные, но мне казалось, что большинство назначений было неправильным. Театр не использовал ее патологическую подлинность в воспроизведении страданий женской души и тела. Иногда, врубив телевизор, случайно попадаю на обрывки ее фильмов, на какие-то бессмысленные сцены, где Ленка так поразительно, так последовательно собирает перламутр женской беды. А вокруг что-то искусственное, нелепое…
Мне кажется, что она надорвалась.
Позволю себе сказать: в последние несколько лет она была несчастлива комплексом своего бытия. Я ничего не знаю о ее семейной жизни и никак не могу эту жизнь комментировать. Вроде бы все наладилось, возник устойчивый быт, рядом появился человек, который не только брал от нее, но и давал ей. Были все внешние приметы успешной актерской карьеры, но душа ее была надорвана.
Когда-то она выдумывала страшные истории про себя, а закончила жизнь по-настоящему ужасно. Форма самоуничтожения, выбранная ею — как раз от той чрезвычайности чувствований, от обостренности души. Крик. Году в шестидесятом в Москве впервые показали скульптуры великого Степана Эрьзи. Южноафриканское дерево, из которого он делал свои фигуры, было необыкновенно чувственным, необыкновенно подходящим для выражения этих, я бы сказал, сексопатологических откровений пластики человеческого тела. И была там одна работа под названием «Крик». Гигантский, разверзшийся болью рот. Таким «криком» и была Лена Майорова…
…В 76-м и начале 77-го мы с курсом занимались в основном на Стопани, во Дворце пионеров, и в этом смысле были мобильны и автономны. В ГИТИСе на нас смотрели как на чужаков — в каком-то смысле наглых и не очень-то управляемых. Наша программа обучения несколько отличалась от существовавшей в институте театрального искусства, и поэтому нас неоднократно пытались корректировать, приводить в «веру христианскую». Стенограммы этих обсуждений у меня сохранились.
С учениками все очень просто: сколько в них вложишь — столько и получишь. Они, эти дети, были моими первенцами, и им досталось очень много хорошего. С ними встречались и разговаривали Окуджава, Высоцкий, Шверубович и многие другие люди, в самой большой степени выражавшие то время.
Все связанное с тем, первым, курсом было настоящим. Вложенное в них было большим, значимым. Они получили от меня по максимуму, чего не досталось даже тем, кто шел сразу вслед за ними.
О возможности создания собственного театра я и не думал. Обучу — и в «Современник». Я занимался новым делом, тратя на него все свое время.
А в «Современнике», добровольно отказавшись от поста директора, я перешел на так называемые «разовые», продолжая, естественно, сниматься в кино и записываться на радио. Тогда я совершенно не предполагал, что через какие-то три-четыре года окажется, что мой родной театр не только не готов принять новое поколение, но и активно выскажется против этого. Что мое представление о том, как должен развиваться «Современник» дальше, окончательно разойдется с представлениями моих товарищей. Они упорно не захотят признавать, что лучшие времена «Современника», когда были адекватны гражданские устремления и реальность бытия, когда векторы успеха и поиска, экспериментаторства были направлены одинаково, прошли. И что в конечном итоге о кризисе театра и о путях выхода из него буду говорить я один, противопоставляя себя коллективу былых единомышленников. Что скоро обнаружится наше несовпадение в самом главном…
Когда-то подвал на улице Чаплыгина был обыкновенным угольным складом. «Навел» нас на него один замечательный человек — Юлий Львович Гольцман, работавший в те поры начальником РСУ или РЖУ Бауманского района. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе.
Склад представлял жалкое зрелище. Повсюду не убираемый никем десятилетиями, рассыпавшийся в прах уголь, увенчанный пирамидками дерьма, которые оставляли после себя местные алкаши и бомжи. Все это выгребли, вычистили, отмыли мы с ребятами собственными руками. С помощью все того же Гольцмана подвал отремонтировали, придали ему человеческий вид и приспособили к тому, чтобы можно было начать репетировать и показывать спектакли зрителям. Итак, с ноября 77-го мы стали обитать в подвале на улице Чаплыгина, 1а.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу