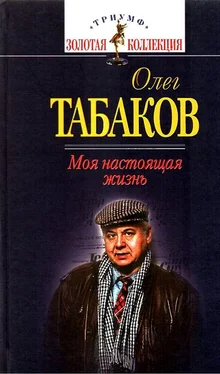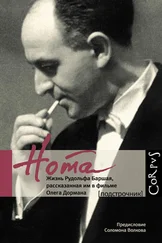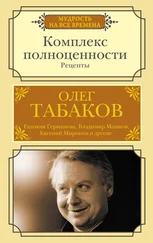Работали мы ни шатко ни валко, как это всегда бывает, когда выпускаются две пьесы в параллель. Какое-то время подготовительная работа над «В поисках радости» была возложена на Сергачева, с молодости тянувшегося к занятиям режиссурой. Занятия эти были не слишком интересными для актеров. Хотя его режиссерский метод и не вызывал ярко выраженного бунта, особых восторгов по этому поводу не ощущалось. Помню, как в одном из этюдов на тему репетируемой пьесы Розов предложил нам стать «едущими на корабле по реке». Каждый должен был определить для себя, где его место — кто в каюте «люкс», кто на палубе, а кто в трюме. Помню, что я все время скакал с этажа на этаж, а Игорь Кваша и дядя Вася, которого играл Евстигнеев, объединялись на почве того, что и тот и другой считали себя «рабочей косточкой», и, распевая «Раскинулось море широко», искали таким образом новые пути в театральном искусстве. Все это долго продолжаться не могло, и настал наконец период выпуска розовской пьесы.
Мой герой был прозрачно понятен мне по жизни.
Играя роль Олега Савина в пьесе «В поисках радости», я даже не осознавал все происходящее в полной мере. Савин совпадал с моей физикой и психикой в каких-то безусловных вещах — и в облике, и в пластике произошло прямое попадание. Полное совпадение тональностей актера и персонажа. Не приходилось размышлять и мучиться над главной проблемой роли — как произносить тот или иной текст. Ничего специально не придумывал, не искал — просто приходил и произносил реплики. Образ был готов задолго до выпуска спектакля. Он был во мне. Он и был я. Требовалась лишь мера безответственного риска, что, конечно, тоже немало.
Состоялась премьера, которая, на мой взгляд, принесла успех и Лиле Толмачевой, и мне. Зритель встречал пьесу весьма тепло. На премьере я, собственно, впервые и понял, что же такое аплодисменты. Актер в «На дне» говорит: «Это как водка. Нет, слаще водки!»…
То время было, конечно же, отчаянно веселое, когда море по колено. До такой степени все вокруг желали, чтобы мы родились как театр, что все, что бы мы ни делали, воспринималось на «ура». Нам прощали и отсутствие формы, как таковой, и недостаточное владение профессией, как таковой. Кто, собственно, мог владеть профессией? Женя, Лиля, Олег. Остальные — не бог уж весть, какие актеры. Но зрители так хотели видеть нас, так хотели, чтобы мы состоялись, что прощали нам многое и окружали нас любовью невероятной, невероятной… Об этом писали. Однажды ко мне пришла женщина — она готовила о «Современнике» диссертацию, и принесла мне громадную кучу разных вырезок, где я не мог найти ни одного бранного слова в свой адрес. Только однажды какие-то трезвые слова сказал Костя Щербаков, да спустя тридцать лет Вера Максимова написала что-то по поводу моей роли в спектакле «Амадей»… А между этим — сплошной фимиам. Так это ощущалось.
Вот таким образом и начался вполне осознанный профессиональный путь.
Подробности судьбы пьесы «Матросская тишина» описывать не надо, есть книга Галича, которая называется «Генеральная репетиция», где он достаточно художественно обо всем рассказывает. Обо мне Галич пишет, что странно ему сейчас встречать солидного, респектабельного Табакова, которого когда-то называли Леликом… Ну, что делать, как говорится — «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел…»
В «Матросской тишине» я играл две маленькие роли (две — потому что в театре не хватало «штанов»). Пианиста, студента консерватории Славку, у которого был репрессирован отец, и солдатика-ранбольного, юного антисемита Женьку.
Я помню всеобщее ощущение беды, беспомощности, когда запретили этот спектакль. Состоялись две генеральные репетиции. Они не были общественными просмотрами, потому что публичное исполнение этой пьесы считалось невозможным. В зале были странные островки людей, близких театру, друзей. И две растерянные женщины — Соловьева из горкома партии и Соколова из отдела культуры ЦК. Спектакль-то рождался талантливый. Евстигнеев играл Абрама Шварца замечательно. А они плакали и не знали, что делать со своими слезами. Ну нельзя им было допустить такое количество евреев на один квадратный метр сцены. Формулировку, которой можно было остановить этот крейсер «Аврора», надвигавшийся на чиновников и готовый вот-вот дать залп, подсказал, как ни странно, один весьма знаменитый режиссер из Ленинграда. Мысль его была такова: пьеса так хороша, так совершенна, а ребята так молоды, так неопытны… Пройдет два-три года, они наберутся опыта, поднатореют и сыграют все то же самое наилучшим образом… Вот под этим «желе-компотом» и был закрыт спектакль. Были всякие разговоры, но все больше в пользу бедных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу