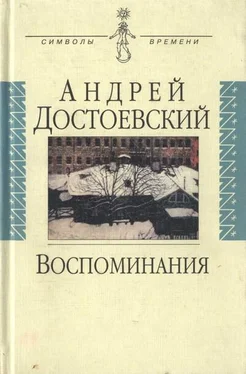Одну слабость имела нянюшка, и эта слабость была причиною еженедельных трат ее на целый пятачок!.. Она нюхала табак. К ней, я помню, всякую неделю, в один и тот же день, ходил табачник, у которого она приобретала недельный запас табаку. Табачник этот, как теперь помню, был очень невзрачный и неопрятный старикашка, но, производя у него покупку, няня всегда вступала с ним в разговоры, и это послужило поводом к тому, что папенька в шутку называл его женихом Фроловны. «Тьфу, Господи прости! — возражала она на это, — мой жених — Христос, царь небесный, а не какой-нибудь табачник!» Но, впрочем, за эту шутку няня на папеньку не сердилась, и он продолжал называть табачника женихом ее.
Как теперь помню один эпизод, случившийся по этому поводу: как-то я бегал в зале и, кажется, мешал отцу заниматься, и он спросил: «Да где же Фроловна?.. Пускай возьмет Андрюшу». — «Да к ним жених-с пришел», — ответила ему горничная. В это время вошла в залу няня и слышала последние слова горничной. Ничего не сказав, увела меня няня в детскую и была очень рассержена. Наконец, вечером явилась к маменьке и объявила следующий ультиматум: «Или меня рассчитайте, или горничную, я вместе с ней не могу жить у вас». Это наделало больших хлопот маменьке; однако, ей удалось заставить горничную в тот же день попросить прощения у нянюшки. Та, как добрая и хорошая девушка, сказавшая пагубное выражение не с целью обиды, исполнила желание маменьки и попросила прощения. — Долго ничего не говорила нянюшка на все извинения горничной, но, наконец, начала читать ей нотацию, продолжавшуюся чуть ли не полчаса, и в конце концов смилостивилась и простила; причем они обе поцеловались, и мир не был нарушен.
Со двора, т. е. в гости, Фроловна почти никогда не ходила. Раз в год или в полтора года она получала известие о приезде в Москву родной сестры своей Натальи Фроловны, которая была монахиней в Коломенском женском монастыре, и во время приездов своих в Москву останавливалась в каком-нибудь московском монастыре. Тогда нянюшка с раннего утра наряжалась и ехала к сестре в гости на целый день до вечера, и маменька в то время бывала (как говаривала сама) как бы без рук. Через несколько дней сестра отплачивала няне визит, также проводя целый день в нашем доме. И этим и кончались все выезды и приемы нашей Алены Фроловны. Одевалась Фроловна всегда очень чисто и ежедневно была в белых кисейных чепцах и тюлевых нагрудниках. Отличались эти чепцы громадными оборками: бывало, как она идет несколько скорее обыкновенного, то оборки эти так и поднимаются вверх.
Время от времени с няней по ночам случались оказии — она во сне начинала кричать. Не знаю, как и выразиться, — это не был крик, а был какой-то неистовый вой. И тогда-то отец должен был сам вставать с постели, и насилу-насилу удавалось ему привести в сознание Фроловну. На другой день всегда, бывало, отец спрашивает: «Что это опять случилось с тобою ночью, Фроловна?» — «Да что, Михайло Андреевич, опять домовой душил, такой страшный, с рогами» и т. д. «Да ты бы, Фроловна, поменьше ела за ужином», — говорил папенька. «Пробовала, по вашему совету, батюшка, — отвечала она, — да еще хуже… все цыгане снятся, и всю ночь не спится… более все ходишь». — «Ну, уж как себе хочешь, — отвечал папенька, — но предупреждаю тебя, ежели опять ты завоешь, я велю выпустить из тебя фунта три крови!» И, действительно, почти ежегодно ей кидали кровь, и день, в который это совершалось, был самым постным для Фроловны днем, потому что в этот день сам папенька следил за питанием Фроловны, и после этого она всегда говаривала, что она исчезает, желая высказать этим, что она похудела и отощала. Выражение это впоследствии сделалось обычным ответом на вопрос о здоровье. «Что, Фроловна, как поживаешь,» — спросит ее кто-нибудь из гостей. «Да что, батюшка (или матушка), — отвечала она всегда, — совсем исчезаю!» И при этом начинала смеяться, колыхаясь всем своим грузным телом.
Я описал, как умел, личность Фроловны, которая занимала видное место в нашем семействе во время нашего детства; о дальнейшей судьбе ее расскажу впоследствии в своем месте; теперь, кстати, скажу и о нашей прочей прислуге, чтобы впоследствии (в этом описании) обращаться с ними как с лицами вполне знакомыми.
Собственно в доме у нас, кроме нянюшки и кормилицы, ежели время совпадало с кормлением кого-нибудь из новорожденных, были только одни прислуги — горничные. Они были наемные, но жили у нас очень по долгому времени; из них одну я помню хорошо, это Веру; она жила у нас несколько лет, лета два ездила с нами в деревню и вообще очень обжилась у нас; но, увы, в конце концов отошла от нас со скандалом, о котором расскажу тоже в своем месте. Теперь же скажу только, что она была дочь хорошего столяра, который с женою своею, как говорится, души не слышали в своей Верочке. После же нее наемных горничных у нас более не было, потому что маменька взяла из деревни трех сирот девочек, которые исполняли все обязанности горничных, двух из них я помню — это Ариша и Катя. Первая, т. е. Арина, впоследствии Арина Архиповна, была очень скромная девочка, постоянно сидевшая за пяльцами или другою какою работою. Вторая же, Катя, была огонь-девчонка. Об них, однако, упомяну впоследствии.
Читать дальше