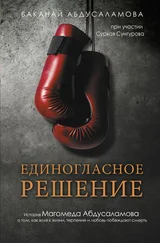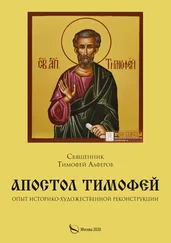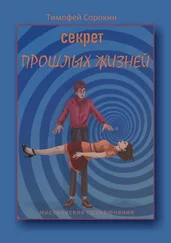Кривцов и Свентицкий не смотрят мне в глаза. Я знаю, они думают: «Даже если мы спасем раненого от смерти — дальше что? Спасем для жизни немого, беспомощного калеку!»
Но у меня есть надежда — может быть, удастся восстановить полость рта путем пересадки тканей. А челюсть… Если бы можно было достать или изготовить протез! Но как его достать и изготовить в лесу?..
Волнуюсь так, что не могу скрыть своего волнения. Первая операция! Бывают случаи, когда хирург с многолетним стажем оперирует на новом месте с неудачным исходом и сразу теряет доверие. Больные к нему не идут. Ведь каждому человеку не объяснишь, что некоторый процент неудач бывает у любого хирурга, что непознанные, глубоко скрытые свойства организма могут свести на нет все искусство врача. Словами здесь обычно не поможешь. Первая операция прошла неудачно, и людям трудно переломить себя и довериться хирургу.
Начинаю работать. Удаляю свертки крови, омертвевшие ткани, осколки костей. Раненый стонет, хотя ему теперь, после анестезии, не должно быть больно. То и дело напоминаю Ане:
— Пинцет! Скальпель! Салфетку! Больше! Больше размером! Тампон! Ножницы! Не те! Изогнутые, с тупыми концами! — Искоса слежу за каждым движением сестры, не спускаю с нее глаз.
Свентицкий осушает салфетками кровоточащие участки раны. Надо делать это мгновенно, чтобы видны были ткани в тот короткий момент, пока кровь еще не успела снова выступить на них. Свентицкий, мне кажется, держит салфетку вдвое дольше, чем нужно, и отнимает ее не отрывистым, а округлым и плавным, изящным движением.
Сразу! Быстро! — говорю я, невольно вкладывая в свое восклицание ту резкую стремительность, какую мне хотелось бы видеть в движениях моего ассистента.
Пинцет хирургический! Салфетку сухую! Щипцы!
Щипцы костные! Как нет? Совсем нет? Достаньте в мешке…
Аня бледна, у нее измученный вид. Так работать нельзя. Когда работаешь с опытной, знающей сестрой, даже долгие и сложные операции проходят в абсолютном молчании. В крайнем случае одного движения руки достаточно, чтобы опытная сестра поняла, что нужно. А здесь? Ноги мои в пыльной скользкой траве, глаза то и дело приходится поднимать от раны, говорю я столько, что язык устал. Нет, так работать нельзя!
Промываю рану раствором риваноля. Накладываю влажную, отсасывающую повязку. Вставляю в горло резиновую трубку. Накладываю на правую руку временную повязку с металлической шиной Крамера.
У раненого серо-голубые глаза, светлые волосы. На вид ему лет тридцать пять, сорок. Он смотрит на меня и что-то мычит. Что он хочет сказать?
— Еще несколько операций — и вы будете говорить! — обещаю я.

Доктор Гнедаш осматривает партизана Машлякевича, перенесшего сложную операцию.

И хорошая книга помогает лечению.

В партизанский лагерь пришла свежая газета.
По глазам его вижу: он мне не верит. У него такие глаза, словно он лежит на дне пропасти, в сотне километров от людей.
— Унесите! — говорю я и в изнеможении сажусь на бревно, заменяющее в палатке скамью. Вытираю лоб, щеки.
Санитары уносят раненого, ассистенты мои уходят. Аня тоже хочет уйти, но я останавливаю ее.
— Аня, минутку. Сядьте сюда. Я вам вот что хочу сказать. Когда мы работаем, перед нами не дерево и не камень, а живой человек. Вся его жизнь зависит от нашего внимания. Вы взялись рукой за косынку, предположим, только дотронулись пальцем до нее и собрали на палец сотни тысяч убийственных микробов, которые с вашей руки попадут в открытую рану. Это вопрос жизни и смерти человека!..
— Я понимаю, — говорит она. Слезы скатываются по ее щекам. — Я понимаю, но что делать, если я не могу?..
— То есть как не можете? Что не можете?
— Не могу научиться работать сестрой.
— Какое у вас образование?
— Дело не в образовании. У меня характер не годится никуда. Я еще до войны пробовала учиться на медицинскую сестру и не смогла. Не могу видеть крови…
— Ничего, это пройдет! У всех так сначала. Вы думаете, мне приятно видеть кровь? Я, когда начал учиться медицине, в обморок падал на операциях. На многих операциях вы помогали?
Читать дальше








![Светлана Замлелова - Эдуард Стрельцов. Воля к жизни [litres]](/books/397652/svetlana-zamlelova-eduard-strelcov-volya-k-zhizni-thumb.webp)