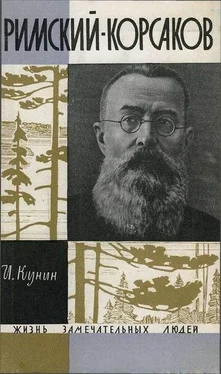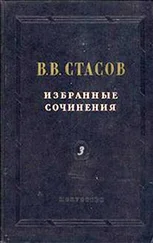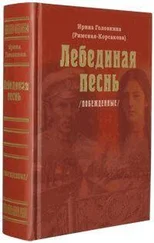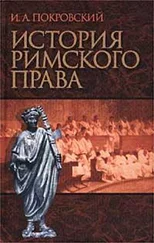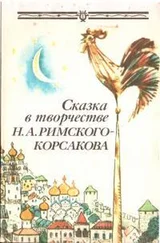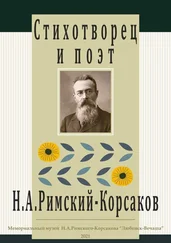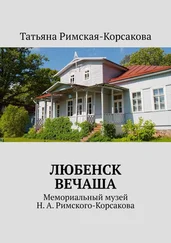Впечатление оказалось ошеломляющим. Сильнее, чем новая оперная форма, новая гармония (Корсаков определил ее как «монотонию роскоши») и текучая, избегающая законченности и расчлененности «бесконечная мелодия», его внимание привлек массивный вагнеровский оркестр. Римский-Корсаков, только что достигший в «Шехеразаде» и «Испанском каприччио» вершин тонко артистической, прозрачной оркестровки, был изумлен, погрузившись в этот мощный, мутный моток. Насыщенный, чувственный тон виолончелей и альтов был сгущен до последних пределов, скрипки витали в бесплотном высочайшем регистре, медь дышала и гремела, а главное — краски клались на звуковое полотно не порознь, а разом, громадной массой. Оркестр был значительно увеличен против обычного состава, отяжелен и «упитан», как выражался Ларош. Не приняв вагнеровской трактовки человеческого голоса как элемента в опере подчиненного, Корсаков, подобно многим западным и русским композиторам, был захвачен красотой вагнеровского оркестра. Невозможно было устоять перед соблазном использовать эти приемы оркестровки, казавшиеся варварскими после изысканной манеры Глинки и самого Корсакова, но именно в силу своей новизны привлекательные для художника.
В «Каприччио», как и в «Шехеразаде», оркестровые тутти (все инструменты) применялись лишь в необходимых случаях. Гораздо чаще отдельные инструменты и группы инструментов солировали, выделяясь отчетливо на мягко намеченном фоне. Мелодия или ее часть, попевка, переходила от флейты к гобою или кларнету, ускользала к струнным и вновь возвращалась в царство деревянных духовых инструментов, этих внуков и правнуков пастушьей дудочки. Они пели-выговаривали инструментальные арии и речитативы, перекликались, дополняли друг друга, и раздельно положенные звуковые мазки сливались в светлую по тону, почти акварельную по легкости музыкальную живопись.
«Каприччио», — писал сам автор, — это… сочинение для оркестра. Смена тембров, удачный выбор мелодических рисунков и фигурационных узоров, соответствующий каждому роду инструментов, небольшие виртуозные каденции для инструментов соло, ритм ударных и прочее составляют здесь самую суть сочинения, а не его наряд, то есть оркестровку… Испанские темы, преимущественно танцевального характера, дали мне богатый материал для применения разнообразных оркестровых эффектов». Характерно для воззрений и требований Римского-Корсакова, что эта как будто весьма лестная авторецензия заканчивается суровой оценкой: «В общем «Каприччио», несомненно, пьеса чисто внешняя…» Слушатель, менее строгий, чем автор, слышит в пьесе и огненную жизнерадостность, и глубокую задумчивость, видит ослепительно сияющее южное небо, смуглые лица и самозабвенную, упоительную' пляску… Так или иначе, на «Каприччио» и «Шехеразаде» учились целые поколения композиторов у нас и за рубежом: во Франции, Испании, Италии. Но сам Корсаков на долгие годы ушел из своего, прочно им завоеванного круга мастерства и принялся учиться тому, чем еще не владел.
Колоссальным учебным этюдом была опера-балет «Млада» на довольно слабый текст В. А. Крылова. Тут был простор для симфонических картин и оркестровых эффектов. Композитор пережил горячее увлечение новой задачей, потом разочарование. Из громадной партитуры, в высшей степени интересной для специалиста, сохранили репертуарное значение отдельные эпизоды. Таковы оркестровое вступление, блестящее Шествие князей, литовская и индийская пляски и даже, целое действие, вполне фантастическое, — Ночь на горе Триглаве. Симфоническое начало господствует в опере над началом драматическим. Оркестр массивен, и оркестровка густа до вязкости.
Вторым, уже более свободным этюдом стала следующая опера Корсакова — «Ночь перед Рождеством». Не найдя в гоголевском сюжете достаточного повода для своих симфонических стремлений, композитор единственный раз в жизни пошел- на явное нарушение замысла писателя. Скромные эпизоды полета кузнеца Вакулы из Диканьки в Петербург и обратно он развернул в обширные балетно-симфонические картины с участием славянских божеств Коляды и Овсеня, звезд, ведьм и ведунов. Свежесть морозного воздуха, сказочная красота зимнего звездного неба, холодное сиянье месяца, сверканье снега — в музыкальных пейзажах, юмор и мягкая напевность украинских песен — в поэтичных хорах, — такова «Ночь перед Рождеством», по-своему истолкованная композитором.
Многое наметившееся здесь — музыкальные образы, приемы воплощения и даже холодноватое великолепие красок нашло развитие и многообразное применение в дальнейшем творчестве Корсакова, особенно в его операх-сказках. Но ближайшим итогом оказалась опера иного склада — «Садко». Вместе с ней композитор вернулся на большую дорогу оперного творчества. Окончилась полоса прямого и скрытого перевеса симфонического начала. Кончилась и первая встреча с вагнеризмом.
Читать дальше