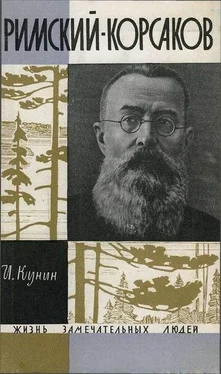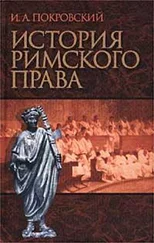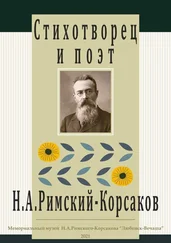Причин для такой размолвки было немало, решающую роль сыграла все же совместная служба в Придворной капелле, где они, постепенно все труднее перенося друг друга и все менее друг от друга скрывая свою неприязнь, прослужили бок о бок с 1883 по 1894 год. Вместе они переустроили быт и обучение малолетних воспитанников капеллы, внесли в их жизнь светлое, осмысленное начало. Вместе — и в непрестанном внутреннем, пусть мелочном, несогласии. Терпеть деспотизм, вздорность, капризность можно, пока любишь. Милия Алексеевича было за что любить, даже в его ущербную вторую половину жизни. Но Корсаков не любил и не прощал. Он ненавидел теперь в Балакиреве смесь елейного смирения с жестокостью и злоязычием, мелочной уязвленности со злобным шовинизмом. Вероятно не вполне отдавая себе в этом отчет, Римский-Корсаков ненавидел в нем весь тяжелый дух официального лицемерия и ханжества, сгустившийся над Россией в восьмидесятые годы, в темное царствование Александра III.
Оба они по долгу службы были в Москве на коронации нового императора. Празднично разукрашенная первопрестольная пестрела военными и придворными мундирами, гремела полковыми оркестрами, церковными и сиротскими хорами, из конца в конец гудела колокольным звоном. Все было аляповато, помпезно, лживо и высокоторжественно. Облаченные в шитые золотом мундиры придворного ведомства Балакирев и Римский-Корсаков присутствовали при обряде коронования в кремлевском Успенском соборе. От всей этой роскоши, от золота и фольги, кумача и алого бархата, от медно-красного лица помазанника, протодьяконских возглашений и жандармских «осади!» оставалось гнетущее впечатление грандиозного, не в меру затянувшегося маскарада.
В последние годы службы Корсакова в капелле отношения с Балакиревым колебались между ледяной официальной вежливостью и вулканическими взрывами, в пылу которых о справедливости уже не думали и друг друга не жалели. Балакирев даже был порою терпеливее и мягче. Сколько все это отняло у обоих сил и жизни, нельзя и счесть.
Все трудности, все горести творческой и семейной жизни Римского-Корсакова стянулись узлом в начале девяностых годов. Умерла мать, умер одиннадцатилетний сын, тяжело захворала младшая дочь. Неожиданно обнаружилось беспечное равнодушие Глазунова, Лядова и Беляева. Запомнилась дикая, в холодном гневе брошенная фраза Балакирева: «Мне до вашего семейства дела нет». Один Стасов оставался верным, заботливым другом. Над всем простиралась безмерная усталость человека, почти не знавшего, что такое отдых или перерыв в работе.
В 1891 году возникает у Корсакова состояние нервного возбуждения, искавшее исхода в лихорадочной работе мысли. Он начинает писать книгу с необъятно расплывчатым содержанием. В ней должны были найти место, общие вопросы эстетики, проблемы эстетики музыкальной, далее — мысли о композиторах «Могучей кучки» и обстоятельный разбор собственных сочинений. Набросав некоторые разделы, композитор обратил свое беспокойное внимание к темам философским, принялся за чтение «Истории философии» Дж. Льюиса, а потом и трудов Спенсера, Спинозы, торопливо занося на поля книг свои соображения, уже не умея остановить все ускоряющийся ход испортившихся часов. Появились навязчивые мысли о религии, о примирении с Балакиревым — признаки переутомления психики. Забывчивость и рассеянность временами доходили до мучительной остроты. Доктора настойчиво рекомендовали отдых.
По счастью, это состояние не препятствовало Николаю Андреевичу вести занятия в консерватории и капелле. Понемногу оно начало рассеиваться и к 1894–1895 годам прошло бесследно. Значительную часть своих эстетических набросков композитор уничтожил; сохранившиеся, несомненно, интересны, хотя изложение действительно страдает сбивчивостью.
В эти мучительные годы мысль художника обращается к прошлому. Начатая им еще ранее музыкальная автобиография значительно подвигается вперед в 1893 году, когда возбуждение уступило место упадку и подавленности. За лето этого года было написано около трети всей «Летописи моей музыкальной жизни», как назвал композитор свои воспоминания.
Интерес их очень велик. Искренность и нелицеприятная правдивость делают «Летопись» выдающимся исключением среди массы артистических и художественных мемуаров. Но многие суждения несут печать тяжелых лет, когда эта книга обдумывалась и писалась. Мы имеем в виду не только 1893 год, но и лето 1906 года, когда, спеша и опуская многое, композитор дописывал воспоминания. «Летопись» — документ, запечатлевший не только мужественную, презирающую все полуправды личность Римского-Корсакова, но и сумрачное, горькое настроение, в каком он находился в начале девяностых годов и снова на последнем этапе своей жизни, перед «Золотым петушком».
Читать дальше