Так было с Хаджи—Муратом, о котором он впервые узнал на Кавказе, но повесть о котором он написал только 50 лет спустя.
«Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, — писал Толстой брату Сергею, — то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи—Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».
Толстой писал «Историю моего детства» с увлечением, не зная еще, что выйдет из его писания. Он переносился мыслями в прошлое, события же сегодняшнего дня — набег, в котором участвовал Толстой, он описал только через год (в 1852 г.).
Этот набег был, в сущности, первым военным действием, в котором Толстому пришлось участвовать, и оно произвело на него сильное впечатление.
Уже тогда, в молодом 24-летнем человеке, наблюдаются начала того миросозерцания, к которому пришел Толстой после 80‑го года: отрицание всякого убийства.
«Меня занимал только вопрос, — спрашивал он себя, — под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных?»
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра!»
«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве — передать невозможно… Мне хотелось слиться с Существом всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал… что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все — и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств — Веры, Надежды и Любви я не мог бы отделить от общего чувства.
Нет — вот оно чувство, которое я испытал вчера — это любовь к Богу. — Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.
Как страшно было мне смотреть на всю мелочную порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно Свое. Я не чувствовал плоти, я был один дух…»
Но страстная, бушующая плоть, человеческие слабости брали свое…
«…Не прошло часу — я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.
Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как смел я думать, что можно знать пути Провидения. Оно — источник разума, и разум хочет постигнуть…
Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею; хочу постигнуть, но не смею…»
В такие минуты он переживал ощущения человека, вознесшегося до вершины неприступной горы, перед которым вдруг открывается необъятный вид, со страшной силой он ощущает все великолепие мироздания, его потрясает ощущение высоты, близости к высшему, к Богу. «Я царь мира, я достиг того, что недоступно людям», — думает человек, глядя на едва заметных людей–букашек, ползающих внизу, его охватывает восторг… но вдруг он чувствует, что ему нехорошо, тяжко дышать, кружится голова, глаза слепит девственная белизна снега, человек шатается, слабеет, быстро спускается вниз…
Такие минуты потрясали все существо Толстого. Он испытывал чувства полного духовного наслаждения, почти восторга, когда вдруг, в порывах этих могучих взлетов, людские страсти, чувственные наслаждения, тщеславие, гордость, мелкие привычки и слабости людские рассматривались им с высоты и казались такими мелкими, ничтожными и гадкими… Но чем выше и могучее были взлеты, тем мучительнее падения…
Он был «не виноват». Духовная сила Толстого даже в то время, когда грехи одолевали его, была в одном: он не оправдывал греха, не узаконивал его, он клеймил себя за него и утешался только тем, что это был тот навоз, который мог или засорять или удобрять почву, выращивать дурные или полезные растения.
Читать дальше
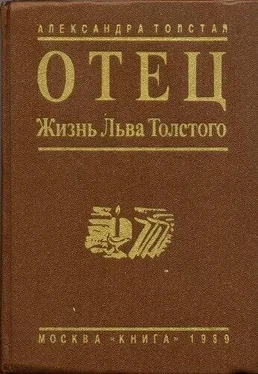

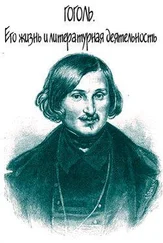





![Александра Завалина - АЛЬТЕРнативная жизнь [litres]](/books/391310/aleksandra-zavalina-alternativnaya-zhizn-litres-thumb.webp)
