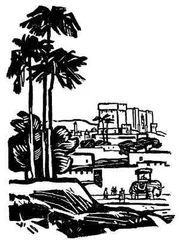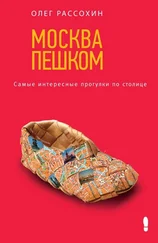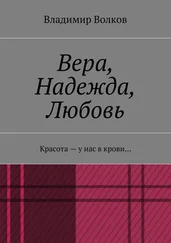Восстановлена и монастырская ограда, сооружение монументальное, протяженностью в 367 сажен (около 730 метров) и высотой в 3 с лишком сажени (6 метров), оборудованное бойницами, стрельницами, площадками «верхнего», «среднего» и «нижнего» боев. Восстанавливать ее было чрезвычайно трудно. Несколько прясел стены обрушилось, часть их разбиралась на кирпичи. Из пяти башен одну – северо-западную – пришлось строить почти заново, она более других пострадала от времени и пожаров. Реставраторы восстановили ее, согласно проведенным исследованиям, сверяясь с историческими данными. Даже конструкции внутрибашенных перекрытий, система деревянных стропил кровли и балок, лестницы воспроизведены в точности такими, какими их делали зодчие XVII века.
Ныне реставрация справедливо причислена к наукам, и термин «научная реставрация» вошел в обиход, вполне соответствуя разработанным отечественными специалистами методам. Современный реставратор уже не гадает о возрасте строительных материалов или их составе, а обращается в специализированные лаборатории, где получает точный научно обоснованный ответ. Разработаны и тончайшие методики зондажей и обследований на месте.
Нахождение производственных цехов на территории монастыря накладывает, естественно, свой отпечаток. В непосредственной близости от башен высятся индустриальные конструкции с трубами и металлическими каркасами; крепостные стены облеплены всевозможными складами и огороженными площадками, работают компрессоры и станки; у складов погрузочно-разгрузочные работы, повсюду стоят грузовики. С другой стороны, то, что производства, изготовляющие необходимые для реставрации материалы и детали находятся тут же, на месте, представляет несомненные преимущества: у заказчика-реставратора все под рукой.
Впрочем, есть здесь цех, демонстрирующий воочию связь с прошлым и знакомящий с забытыми ремеслами. Я имею в виду художественные мастерские, где вручную реставрируют, или, вернее, копируют, старые вышивки, старинные штофы и гобелены, что показываются в музеях. Художники размещены в том крыле братского корпуса, где на втором этаже находились царские кельи – просторные, с окнами на реку и заречные дали: не их ли вспоминал Павел Алеппский, когда писал о «веселом помещении с видом на город и реку»?
Вошедшего в цех останавливает картинка, воскрешающая сюжеты Венецианова и Тропинина: девушки сидят за пяльцами или склонились над шитым шелками узором… Столы завалены мотками ниток всех мыслимых цветов. Тут же – стопки сложенных образцов старинных обоев, какие можно видеть на стенах зал и гостиных бывших царских дворцов. Мне стоило заговорить о знаменитых обоях с куропатками в кабинете петергофского дворца, как тут же был продемонстрирован образец: именно здесь, в соседнем ткацком цехе реставрационных мастерских, было изготовлено нужное количество этих удивительных обоев, словно воплотивших всю изысканную прелесть пасторального века. Но в цехе, где выполняли заказ, – механические станки; здесь же, за пяльцами, – мастерицы вручную продевают шелковинки между нитями основы, подправляют их иглой, потом прижимают особой лопаточкой. На то, чтобы выткать вручную один квадратный метр шелка тонкой работы, затрачивается год!
Любуясь десятками образцов реставрированных или воспроизведенных здесь старых штофов всевозможных рисунков, я вспомнил, что в шестидесятых годах прошлого века будущий художник Огюст Ренуар, тогда еще подмастерье, расписывавший фарфоровую посуду перед обжигом, сокрушался по поводу вытесняющего ручную работу серийного производства и предсказывал гибель искусства. Справедлив ли такой прогноз? Не вернее ли сказать, что предмет массового выпуска, как бы ни был совершенно сделан, никогда не сравняется с вышедшим из рук мастера и что тот и другой имеют свое назначение и могут сосуществовать, не соперничая между собой?
Из помещения я вышел, унося память о мастерицах за пяльцами и впечатление о немеркнущей красоте, сотворенной их искусными руками. И еще подумал, что здесь очаг, который не даст заглохнуть древнему искусству художественного шитья и передаст его следующим поколениям!
В заключение расскажу об одном эпизоде из многовековой летописи Новоспасского монастыря – ничтожном по своему удельному весу, но красноречиво говорящем о нравах своего времени. Как всякая таинственная придворная история, дающая пищу толкам и догадкам, случай этот привлек пристальный интерес историков и волновал их воображение. Широко известна и картина – особенно по открыткам – художника середины прошлого века Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». На ней изображена в живописной позе отчаяния молодая прелестная женщина, сильно декольтированная, в вишневом бархатном платье, гибнущая в каземате Алексеевского равелина Петропавловской крепости в наводнение: через окно уже хлынули буйные невские воды, на убогую тюремную кровать, где ищет спасения несчастная узница, лезут тонущие крысы…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
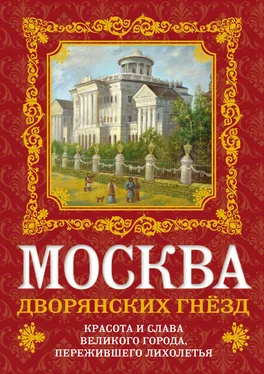
![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)