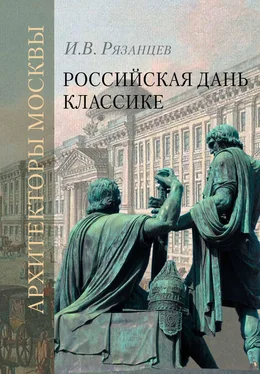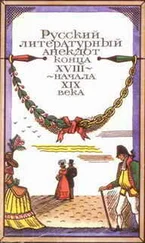Четкое членение весьма полезно для анализа. Однако в действительности эти части наследия далеко не всегда столь ясно дифференцированы. Прежде всего, говоря о мифологии, мы имеем в виду мифы, запечатленные литературой, реже греческой, чаще римской. Это слияние мифа и литературы тем естественней, чем больше он утрачивает свою мировоззренческую суть, чем больше в нем берет верх фабульное начало. Различие между историей и литературой теоретически закреплено еще Аристотелем: историк «говорит о том, что было», поэт «о том, что могло бы быть» [57] Аристотель. Соч. В 4-х т. М., 1983. Т. 4. С. 655.
.
Но на практике даже соблюдение этого принципа не снимает определенного внутреннего родства античной истории и литературы. Дело в том, что история и в XVIII веке еще выступает в своей ранней внесоциальной ипостаси как история деяний людей. Причем просветительство особенно внимательно изучает своеобразные черты исторической личности [58] См.: Фридлендер Г.М. История и историзм в век Просвещения // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX века. Л., 1981. С. 73.
. В итоге это означает, что рассматривается борьба намерений человека с судьбой, роком; кипение человеческих страстей; противостояние разума и невежества, долга и своеволия, самоотверженности и корысти, добра и зла. Вполне сопоставимый комплекс проблем (конечно, со своими особенностями) встречается в литературе. Кстати, не только там, но и в мифологии, и в «священной истории». Словом, налицо явная «литературизация» мифологии и истории.
Одновременно ощутима и другая тенденция: история приравнивает по достоверности факты действительности и свидетельства преданий. Таких примеров множество: Плутарх повествует и о легендарном Ромуле, и о Юлии Цезаре, Иосиф Флавий рассматривает Моисея как реально существовавшее лицо. Подобный подход во многом характерен для западноевропейской и русской историографии даже во второй половине XVIII века. Приведем лишь один пример: работа аббата Куайе «Торгующее дворянство» 1756 года. Это полемика с маркизом де Ляссе, переведенная на немецкий язык и прокомментированная юристом и экономистом Юсти и переведенная на русский Д.И. Фонвизиным. Здесь участвуют четыре автора из трех стран, и поэтому пример особенно показателен. Для нас важно, что в статье содержится опыт демографической статистики, основывающийся на… Ветхом Завете! Сказано буквально следующее: «По преданию Моисееву свет начало свое имеет от одного брака и умножался каждые двадцать лет, т. е. в такое время, в которое все люди умножать свой род способны. Через сие положение в конце второго века было уже на земле 512 человек» [59] Цит. по: Фонвизин ДМ. Указ. соч. С. 144, 670.
. Так, история в «век Просвещения» все еще не может расстаться с мифом и со «священной историей». При этом парадоксальность ситуации усугубляется существованием уже с 1690-х годов целого направления в историографии, принципиально подвергающего сомнению предания (в том числе христианские), разграничивающего факты и вымысел. Речь идет об «исторической критике», ведущими представителями которой являются П. Бейль и Вольтер [60] См.: Фридлендер Г.М. Указ. соч. С. 68–69.
.
В свою очередь «священная история» – Ветхий и Новый Завет – переживает встречный процесс. Она «историзируется». От Средневековья к Ренессансу и далее к XVII, а затем XVIII веку (у нас от Средневековья – к Новому времени) меняется отношение к «священной истории». Если в ранние эпохи в ней ищут и находят основу для чисто сакральных, внежизненных художественных ситуаций, таких, как «Христос во славе», то позже все более часто изображают конкретные события и эпизоды, изложенные в «священной истории». Причем акцент в этом словосочетании все заметнее переносится с определения «священная» на понятие «история».
Таким образом, основные компоненты наследия взаимно тяготеют. Мифология и история «литературизируются», история благоволит мифу, «священная история» стремится подчеркнуть свою принадлежность к истории.
Во второй половине XVIII века подобное сближение дополнительно стимулируется излюбленными тогда изданиями справочного характера. Это всякого рода энциклопедии, словари (лексиконы и диксионеры), книги типа хрестоматий, сборники сюжетов, указатели, толкующие символы и эмблемы, рассказывающие об аллегориях, краткие изложения «универсальной» истории. Только на русском языке число таких трудов во второй половине XVIII века приближается к двум десяткам. А ведь к ним нужно прибавить довольно много непереведенных, имевших хождение в России. Они охватывают преимущественно мифологию, «священную историю», отчасти историю и иногда литературу. Работы такого рода, как правило, излагают наиболее популярные сюжеты, рассказывают о наиболее известных персонажах. При этом главное – сообщить читателю основные сведения, а не донести до него индивидуальность исторического, литературного или иного источника. Все дается в переложениях, извлечениях. Отсюда и явная нивелировка, еще больше сближающая различные составные части текстового наследия.
Читать дальше