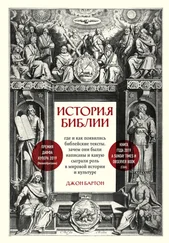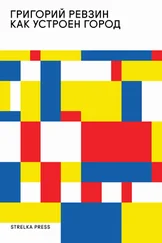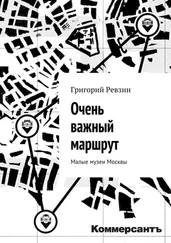Полагаю, точно также происходит с нынешней архитектурой. Если бы Россия сегодня превратилась в европейскую страну (или если превратится в будущем), то вещи Сергея Скуратова, Владимира Плоткина или Юрия Григоряна станут предметом паломничества – как первые ступени на грандиозном пути, приведшем к великой цели. Так, скажем, сегодня происходит в Сингапуре, где довоенные кварталы на Club Street (провинциальный английский модернизм) ухожены, умыты, отреставрированы и показываются туристам как первые шаги на пути к жилым комплексам Либескинда и Колхаса. Если бы России удалось стать, не знаю, чем-то вроде «Великой Ордуси» из детективных романов Холма ван Зайчика, где «православие – самодержавие – народность» неясным образом соединились бы с конфуцианской этикой и «американской деловитостью» (как выражались в 30-е годы), то ровно ту же роль исполняли бы работы Михаила Посохина, Виктора Колосницына или Андрея Бокова. Проблема в том, что сегодня ни того, ни другого не случилось, и не похоже, что случится. Отсюда архитектура последних двадцати лет оказывается опытом отрицательного ответа на исторические вопросы. Опытом исторического поражения.
Это поражение оказывается фактором, который влияет на профессиональную оценку архитектуры. Так не должно быть, разумеется, но проблема в том, что абсолютных критериев качества сегодня не существует. Мы оцениваем жизнеспособность школы по тому, насколько ей удалось утвердить свои приоритеты и повлиять на другие школы, а это невозможно, если архитектура отмечает линию пути, по которому страна идет в тупик. Кому охота повторять такой опыт?
Но при этом ведь исторический смысл и смысл жизни – даже если это не личный смысл жизни, но смысл жизни поколения – не одно и то же. Исторический смысл мы можем формулировать в терминах эксперимента – может ли Россия стать европейской страной – и получать отрицательный результат. Критерий чистоты эксперимента – возможность его повторять, а этот эксперимент уже ставился раз пять в русской истории, и, вероятно, нынешний эпизод – не последний. Но на вопрос о смысле жизни отрицательного ответа дать нельзя, потому что это не эксперимент, его нельзя поставить второй раз. Ответ здесь не дается в законченном виде, а проживается, длится, и процесс здесь важнее результата.
Проживается – кем? Люди не приняли те смыслы, которые выразили наши двадцать героев, русские архитекторы малоизвестны, не входят в мировые рейтинги, не слишком уважаются российскими интеллектуалами, бизнесом и властью. Но они-то эти смыслы пережили. Это был уже не исторический, а их личный смысл жизни, ну пускай только творческой жизни, хотя некоторые из них искренне смешивали жизнь и творчество. Им не удалось найти формулу для современников, но это не только их проблема, а и современников тоже.
Возьмем авангард. В чем был смысл этого проекта? В преобразовании жизни, настолько радикальном, что здания побеждали силу тяготения, взлетали над землей и мыслились как первые шаги в движении человечества в принципиально новое, не вполне земное существование. Удалось ли выполнить этот проект? Нет. Но каждый конкретный проект обретает смысл не в общем пафосе, но как исполненный жизни и неповторимый эпизод. Человечество в целом не взлетело, но при этом оно невероятно взлетает в каждом проекте Леонидова или Мельникова. И это остается.
Возьмем сталинскую неоклассику. В чем был смысл этого проекта? В попытке соизмерить жизнь XX века с классической традицией, найти вечный язык архитектуры, который равно бы подходил и для античности, и для Ренессанса, и для эпохи атомной бомбы, и для будущего тоже. Вообще-то это не настолько абсурдно, как кажется на первый взгляд, – скажем, есть язык геометрии, который не меняется уже несколько тысячелетий, – они хотели найти что-то настолько же абсолютное. Я бы, правда, сказал, что архитектура в этом случае вообще перестает быть искусством и становится видом науки, где есть один правильный способ решения задачи, а все остальные – галиматья. Типологически так понятая классика не отличается от строительства пятиэтажек, но классицизмы иногда впадают в такое состояние – вспомните Булле, Леду и Grand Prix de Rome. Удалось ли реализовать этот проект? Разумеется нет. И если мы проследим путь Ивана Жолтовского от палаццо Тарасова до довольно-таки безумного проекта панельного хладокомбината, украшенного барочными картушами, или путь Ивана Фомина от дачи Половцева до нелепого Дома правительства в Киеве, или путь еще кого-либо из неоклассиков первого ряда, то мы несомненно придем к выводу, что это бы опыт исторического поражения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
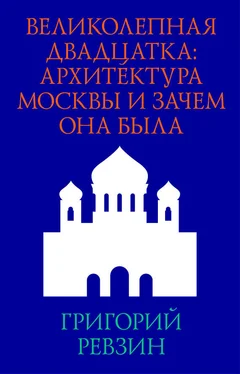
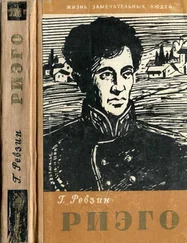
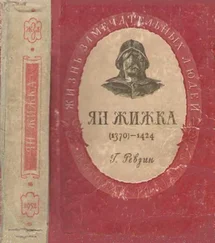




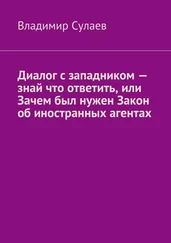
![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)