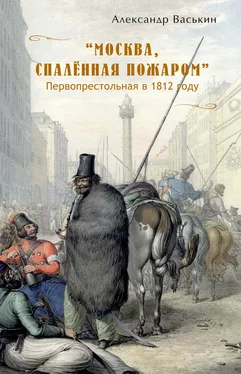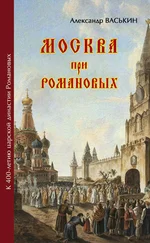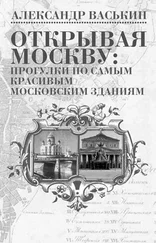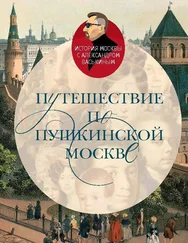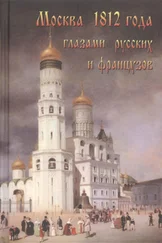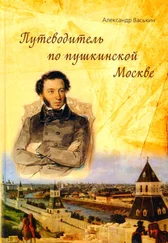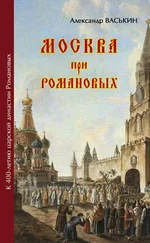Отец Ростопчина, зажиточный помещик, отставной майор, Василий Федорович Ростопчин, широко известен был разве что в пределах своего уезда. Жена его, урожденная Крюкова, скончалась вскоре после рождения младшего сына Петра. На руках у Василия Федоровича осталось двое детей, которых воспитывал конгломерат воспитателей: нянька, священник, учивший словесности и гувернер-иностранец (по всей видимости, француз, т. к. ненависть к галлам Ростопчин пронес через всю жизнь).
Подрастающего Феденьку воспитатели учили «всевозможным вещам и языкам». Описывая свое детство, Ростопчин довольно безжалостен к себе, отрекомендовав себя «нахалом и шарлатаном», которому «удавалось иногда прослыть за ученого»: «Моя голова обратилась в разрозненную библиотеку, от которой у меня сохранился ключ». Как мы убедимся в дальнейшем, это одно из самых редких, нехарактерных для Ростопчина проявлений самокритичности.
В десять лет началась его военная служба – он был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1776 году произведен в фурьеры, в 1777 году – в сержанты, в 1779 году – в прапорщики, в 1785 году– в подпоручики, в 1787 году-в поручики, а в 1789 году получил чин капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка. [5]
Свой «домашний» запас знаний он серьезно пополнил во время пребывания за границей в 1786–1788 годах. Он побывал в Германии, Франции, Англии. Слушал лекции в университетах Лейпцига и Геттингена (кстати, последнее учебное заведение было весьма популярно среди либеральной дворянской молодежи Европы).
Эти два года сформировали Ростопчина, образовали его как весьма просвещенного представителя своего поколения. Надо отдать ему должное – он проявил отличные способности к самоорганизации, поставив себе цель получить максимально возможный объем знаний. Он занимался не только гуманитарными науками, изучением иностранных языков, но и посвящал время математике, постижению военного искусства. Учился Ростопчин целыми днями, по десять часов кряду, делая перерыв лишь на обед.
Из дневника, который Ростопчин вел в Берлине в 1786–1787 годах, мы узнаем о том, что его часто принимали в доме у российского посла С.Р. Румянцева, который ввел его в высшие слои местного общества. А в ноябре 1786 года Ростопчин сделал дневниковую запись о своем посвящении в масоны – факт малоизвестный, его Федор Васильевич предпочел вычеркнуть из своей биографии, в которой борьба с масонами займет ведущее положение, хотя дальнейший карьерный рост Ростопчина связывают именно с его принятием в масоны и дружбой с С.Р. Воронцовым, русским послом в Лондоне и влиятельным представителем общества вольных каменщиков.
После возвращения на родину, пребывавшую в ожидании очередной войны, для Ростопчина наступило время «неудач, гонений и неприятностей», так он назвал военную службу. До начала русско-шведской войны 1788–1790 годов он пребывал в главной квартире русских войск в Фридрихсгаме, затем под командованием Суворова волонтером участвовал в русско-турецкой войне 1788–1791 годов, штурмовал Очаков, сражался у Фокшана, на реке Рымник.

Ростопчин Ф.В. Худ . С. Тончи. 1800 г .
Любопытно, что Ростопчин сетовал на невнимание к нему со стороны начальства, выразившееся в «отсутствии почестей, которые раздавались так щедро». Но разве не большой честью для него, молодого офицера, был подарок Суворова – походная палатка прославленного военачальника. Такое отличие дорогого стоит, тем более что весьма разборчивый Суворов Ростопчина заметил и приблизил к себе. В дальнейшем пути их не раз пересекались. Только ролями они поменялись – теперь уже Суворов удостаивался особого расположения Ротопчина, ставшего главой военного департамента во время заграничных походов русской армии. Александр Васильевич отзывался о Ростопчине как о «покровителе», «милостивом благодетеле». [6]
По иронии судьбы именно Ростопчин в 1797 году и сообщил Суворову о его отставке: «Государь император, получа донесения вашего сиятельства от 3 февраля, соизволил указать мне доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца». [7]
А во время русско-шведской войны Ростопчин, командуя гренадерским батальоном, был представлен к Георгиевскому кресту, но не получил и его. Потерял он и единственного младшего брата Петра, геройски погибшего в бою со шведами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу