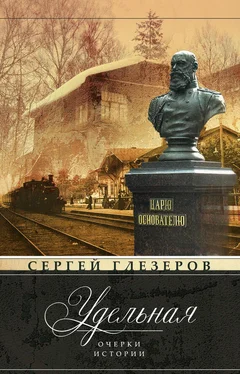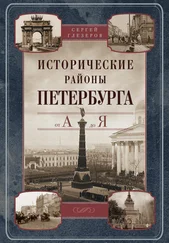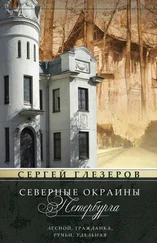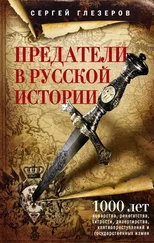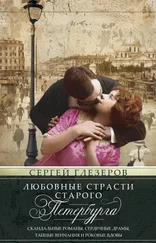Культурная жизнь
Культурный досуг на Удельной в те годы был очень скудный: только кинотеатр «Уран» и клуб «Красный Октябрь».
«Уран», находившийся в пяти минутах ходьбы от нашего дома, на Ярославском проспекте, недалеко от Скобелевского (там же, где и сейчас), был нашим «домашним кинотеатром». Телевизоров ведь у нас в начале 1950-х годов еще не было. Кинотеатр был мест на двести, с маленьким экраном, правда, где-то в 1959—1960 годах его расширили за счет небольшой сцены, и мы смогли смотреть и широкоформатные фильмы, которые уже шли в 60-е годы.
Моей обязанностью было днем, сразу после школы, взять билеты на меня и маму, иначе к вечеру их уже не было. Новые фильмы шли дней пять, и повторов фильма не было очень долго. В то время очень строго следили за нравственностью детей, и табличка «Дети до 16 лет на просмотр фильма не допускаются» часто появлялась и на афише, и у билетной кассы, и при входе в зал. Поэтому многие фильмы я в то время знала только по пересказам мамы. К примеру, запретным для меня был фильм «Дело было в Пенькове». По сегодняшним меркам, там есть только одна «откровенная» мизансцена, где показан сеновал и две пары тапочек – мужские и женские.
Второй кинотеатр был в клубе «Красный Октябрь» – его в народе называли «красный лапоть». Клуб размещался в помещениях бывшей церкви при больнице для душевнобольных. Там же была библиотека, работали бесплатные кружки для детей. Я ходила туда в драмкружок.
Что же касается первого телевизора, то он появился у нас во дворе где-то в 1958—1959 годах – в семье Лурье. Это был телевизор марки «КВН» с экраном в полте-традного листа. Выпускал его новгородский завод. И вот на таком маленьком экране мы впервые увидели бегающие картинки, как в кино. Показывали художественный фильм «Овод» с Олегом Стриженовым в главной роли. Нас собралось человек десять, и все мы почти вплотную уткнулись в экран. Такой просмотр мне быстро надоел и разочаровал, так как конкуренции с кинотеатром «Уран» он не выдержал. Потом, правда, появилась у них приставка-линза, которая увеличивала изображение раза в три, но передачи шли очень редко, по вечерам, и длились часа три...
А из театров, в основном, у нас пользовался популярностью Выборгский дом (тогда еще не дворец!) культуры – самый доступный из-за транспорта. Я в детстве любила смотреть там новогодние спектакли, как я говорила – «елки с содержанием».
Имелось в виду не подарки, а именно спектакли для детей на новогоднюю тему После спектакля мы с мамой заходили у Финляндского вокзала в продовольственный магазин и покупали вафельные трубочки, наполненные белковым кремом. Только там они продавались. Однажды мы купили там торт-мороженое. Они только что начали выпускаться. Привезли домой, поели, а часть повесили в сетку за окно. Холодильников еще не было и в помине. Мороз на улице в тот день был небольшой, а к утру следующего дня вообще растаяло. Ведь и тогда были капризы у погоды. Встали утром, и видим, как по оконному стеклу текут молочные реки...
Повзрослев, я с мамой ходила в ДК «Выборгский» и на вечерние спектакли. Нам, удельнинцам, было очень удобно добираться до него в те годы, да при тех транспортных возможностях. А потом, уже к концу 1950-х годов, и концертный зал «У Финляндского» стал проводить циклы музыкальных лекций-концертов, которые вел прекрасный музыковед Александр Утешев...
Культовых зданий на Удельной в те времена не было, но рядом, в Коломягах, действовала церковь Св. Дмитрия Солунского. Многие пожилые жители туда ходили, в том числе и с нашего двора. Моя бабушка регулярно посещала там все службы, особенно по праздникам. А уж Пасху-то отмечали все, и запах только что испеченных куличей стоял во всем доме. Бабушка обязательно ходила освящать их в Коломяжскую церковь. В магазинах куличи тогда не продавали. На крестный ход собирались идти группой, потому что в темноте ходить по тем пустынным улицам было страшновато.
До того момента, как меня приняли в пионеры, я с бабушкой тоже ходила на службы, но не каждый раз, потому что доставляла ей массу хлопот своими расспросами во время службы. Ну а уж когда стала пионеркой, я отказалась от этого. И потом, мне больше нравилась церковь Спаса Нерукотворного на Шуваловском кладбище, куда мы с мамой регулярно, раза два в год, ездили на могилу к отцу. Эта церковь тоже действовала на протяжении всех эпох. По размерам и убранству она была богаче Коломяжской церкви. А интерес к религии, особенно к ее истории, остался у меня на всю жизнь...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу