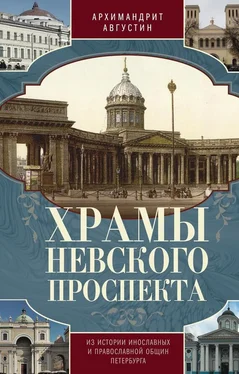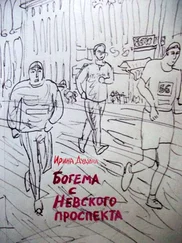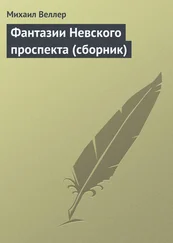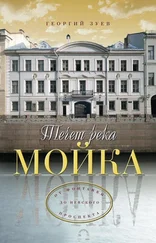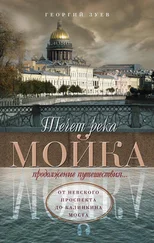И вот наконец наступил «юбилейный год». К празднику вышла в свет монография епархиального архитектора Андрея Аплаксина. Книга, озаглавленная «Казанский собор в Санкт-Петербурге. 1811–1911. Историческое исследование о соборе и его описание», была издана на средства Казанского собора в 1911 г.
К этому времени в Казанском соборе были закончены реставрационные работы. «К юбилею Казанский собор почистили, густо посеребрили купол, подправили однотонную раскраску стен и колонн цвета „кофе с молоком“, хотя, казалось, должна бы быть строго восстановлена первоначальная раскраска, – отмечалось на страницах печати. – Внутри тоже многое тщательно отчищено и отремонтировано, посветлели своды и главный купол, где отчетливо видна однотонная под барельеф живопись в барабане. Блестит серебро иконостаса. Светлее стала живопись в парусах (судя по „Тайной вечере“ в алтарной абсиде, к живописи вообще, по-видимому, отнеслись осторожно). Несколько по-багетному кричит местами новая или отчищенная позолота карнизов рядом с почерневшим золотом капителей колонн» [890].
Но около собора все осталось по-прежнему, поскольку любые изменения на прилегавшей территории могли затронуть интересы влиятельных лиц (Приложение 2). И в той же заметке, где выражалась радость по поводу обновления соборного интерьера, читаем далее: «Напрасны были постановления, ходатайства, почти вопли, в Обществе архитекторов-художников и в недавнем съезде архитекторов о необходимости открыть, наконец, дивную воронихинскую решетку, направо от собора. По-прежнему она забита железными листами, заслонена фотографическим павильоном, оранжереей, даже деревянной фруктовой лавчонкой. А между тем, именно к юбилею собора следовало бы привести в порядок уголок перед решеткой, превратив его в цветник-партер и тем открыв мастерское произведение, так интересно говорящее о широких неосуществившихся планах прекрасного зодчего. Трудно было бы лучше почтить его память» [891].
Казанский собор освятили накануне Отечественной войны 1812 г., а 100-летие со дня кончины его создателя – А.Н. Воронихина совпало с началом Первой мировой войны. Но, несмотря на военные тяготы, в российской столице не прекращались культурные начинания, в том числе и в церковной сфере. Так, в течение марта-апреля 1915 г. в музее барона Штиглица провели выставку старины с показом церковной утвари из ризниц соборов Зимнего дворца, Александро-Невской Лавры, Петропавловского, Казанского и других храмов (Приложение 3).
Одним из современников этих событий стал поэт Бенедикт Константинович Лившиц (1887–1939). Его перу принадлежит большой цикл стихотворений, посвященных Петербургу; среди них – «Казанский собор» (1914 г.).
И полукруг, и крест латинский,
И своенравца римский сон
Ты перерос по-исполински —
Удвоенный дугой колонн.
И вздыбленной клавиатуре
Удары звезд и лет копыт
Равны, когда вздыхатель бури
Жемчужным воздухом не сыт.
В потоке легком небоската
Ты луч отвергнешь ли один,
Коль зодчий тратил, точно злато,
Гиперборейский травертин?
Не тленным камнем – светопада
Опоясался ты кольцом,
И куполу дана отрада
Стоять колумбовы м яйцом [892].
То, что для читателей того времени было понятно без комментариев, ныне требует пояснения. Внутри Казанский собор имеет форму латинского креста (нижний конец длиннее остальных) с закруглениями на его коротких концах. Именно своенравец Павел I пожелал, чтобы Казанскому собору было придано сходство с собором Св. апостола Петра в Риме. Стены и наружные колонны Казанского собора сложены из пудожского камня – известняка особого рода, по цвету и свойствам напоминающего римский травертин – камень, использовавшийся в Италии для строительства архитектурных сооружений. В отличие от южных «латинян», строителями Казанского собора были «гипербореи» – по преданиям древних греков, народ, живший далеко на севере. И наконец, в последней строке своего стихотворения поэт обыгрывает крылатое выражение «колумбово яйцо»: смелое, находчивое решение сложного вопроса. При строительстве собора Воронихин применил необычное решение: поставил его на сравнительно тонкие устои, чем был достигнут поразительный эффект легкости [893].
В 1913 г. распоряжением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Богоявленского; 1912–1915 гг., будущего священномученика Киевского) настоятелем Казанского собора назначили протоиерея Философа Николаевича Орнатского. Он родился в Новгородской губернии, в семье сельского священника. Все его братья избрали путь служения Церкви. После окончания Санкт-Петербургской Духовной Академии он служил на приходах Петербурга. В октябре 1913 г. столичные газеты писали: «Предложением Высокопреосвященного митрополита Петербургского Владимира, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, на освободившуюся должность настоятеля Казанского собора назначен один из самых популярных в столице пастырей, известный церковный деятель и оратор, настоятель церкви святого Андрея Критского при Экспедиции заготовления государственных бумаг, митрофорный протоиерей Философ Николаевич Орнатский».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу