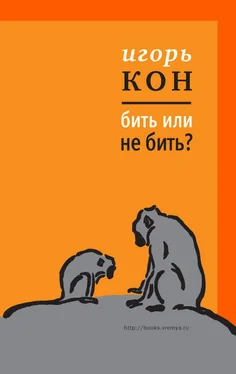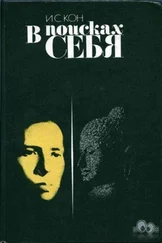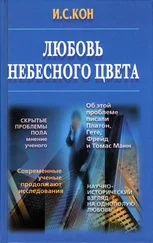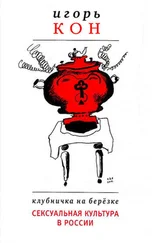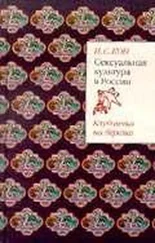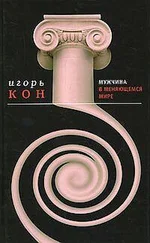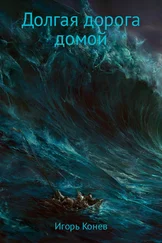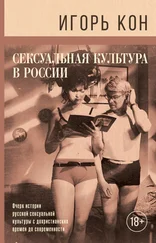В архаических и патриархальных обществах телесное наказание было всеобщей и универсальной формой дисциплинирована детей, которая обеспечивала поддержание вертикали власти и межпоколенческую трансмиссию культуры. Древние философы спорили лишь о допустимой мере жестокости наказания и условиях его применения (например, может ли раб-воспитатель пороть свободнорожденного ребенка).
В связи с изменением содержания и усложнением методов социализации детей под влиянием философии гуманизма в начале Нового времени телесные наказания стали подвергаться все более резкой критике, но она касалась больше школы, чем семьи, и скорее обучения, нежели воспитания. Под сомнение ставился не столько сам метод, сколько его эффективность.
Отношение к телесным наказаниям детей производно от того, как в данном обществе принято обращаться с взрослыми. Раб или крепостной не обладал статусом человека, с ним можно было обращаться, как с животным. Дисциплина голода может быть не менее жесткой, чем палочная, но рыночная экономика не позволяет предпринимателю бить своих наемных работников, потому что они лично свободны. Новый социальный контракт постепенно изменяет философию наказания, исключая его наиболее жестокие, унизительные, «бесчеловечные» (обратите внимание на термин) компоненты. Тело, понимаемое как вместилище разума и духа, не должно быть средством мучительства и причинения боли. В конце XVIII – начале XIX в. из европейского обихода постепенно уходят публичные пытки и казни. Из средства возмездия и устрашения наказание начинает трактоваться как способ перевоспитания. Постепенно это распространяется и на детей.
Историческая эволюция телесных наказаний в западноевропейской школе, лучше всего прослеживаемая в Великобритании, включала а) смягчение их жестокости, б) появление формальной регламентации наказания, ослабление учительского произвола и в) попытки координации вертикальной учительской власти и горизонтальной власти соучеников, поскольку эти власти конфликтовали друг с другом и действовали разнонаправленно.
К концу XIX – началу XX в. под влиянием макросоциальных факторов и развития самой системы образования, включая появление женского образования и совместных (смешанных) школ, в государственных школах большинства европейских стран телесное наказание маргинализируется или запрещается (в церковных школах оно сохраняется). Семейные отношения оставались вне сферы государственного контроля, за исключением случаев явного и жестокого физического насилия над ребенком. Тем не менее ослабление отцовской власти и постепенная переориентация родительства и семейной дисциплины с авторитарного типа на авторитетный проявляется и в домашнем быту. Одновременно усиливается классовая дифференциация: в рабоче-крестьянских семьях воспитание детей чаще остается авторитарным, основанным на телесных наказаниях, чем в семьях среднего класса, особенно интеллигентских.
После Второй мировой войны на волне общей демократизации мира, в рамках борьбы за права человека, одним из аспектов которых являются «права ребенка», началось международное движение за полный запрет телесных наказаний, достигшее кульминации в начале нового столетия, когда Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провозгласила Общеевропейский запрет на телесные наказания детей, который законодательно поддержали 27 государств. Эта инициатива официально одобрена и поддержана представителями всех ведущих мировых религий.
Изменение отношения к телесным наказаниям детей не локальное явление. Вторая половина XX в. существенно расширила объем понятия «человеческого», включив в него категории существ, которые раньше туда не относились или относились с оговорками. Крушение мировой колониальной системы не допускает истребления, обращения в рабство, дискриминации и нарушения прав представителей других рас или религий. Гендерная революция подрывает старый принцип господства мужчины над женщиной, делая морально и юридически неприемлемыми любые формы насилия, как бы широко они ни были распространены и почитались «нормальными» в историческом прошлом. Понимание единства мироздания не терпит жестокого обращения с животными, о которых все чаще говорят не только как о пищевом ресурсе и рабочей силе, но и как о братьях наших меньших.
Более динамичное общество требует от человека повышенной самостоятельности в принятии решений, соответствующие качества закладываются в детстве, а жесткое силовое воспитание этому не способствует. Пока школьное обучение концентрировалось на механическом заучивании формальных правил и текстов, ребенка приходилось удерживать в классе силой. Как только зубрежка уступает место «учению с увлечением», телесные наказания становятся неэффективными и контрпродуктивными. Они больше не нужны ни ученику, ни учителю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу