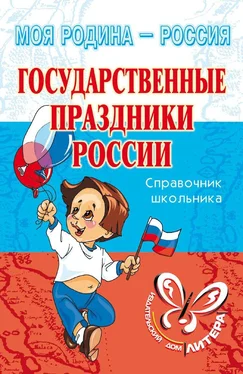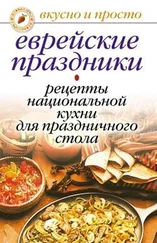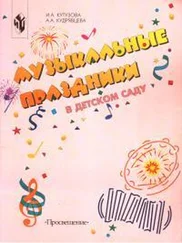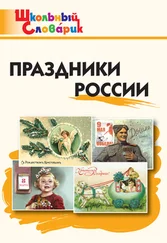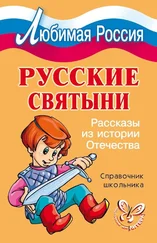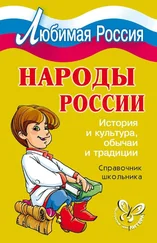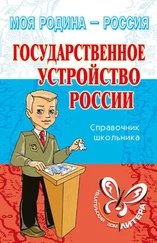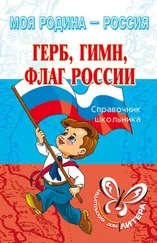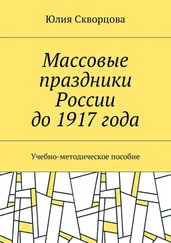В этом указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушек или мелких ружий «учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет». С 1 по 7 января «по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы». 31 декабря в 12 часов ночи Пётр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету.
Он же утвердил и новый ритуал празднования Нового года.
После молебна в Успенском соборе в Москве на Красной площади проходил парад войск, которые шли «с распущенными знамёнами, барабанным боем и музыкою». Под колокольный звон, пушечную пальбу и ружейный огонь, производимый войсками, царь поздравлял всех с Новым годом и принимал от всех поздравления.
Начиная со времени Петра I, особенно популярными стали маскарады с переодеваниями, играми и весельями. Тогда по улицам ходили толпы переодетых людей в масках. Их называли ряжеными.
Новые новогодние обычаи прижились довольно быстро, потому что раньше в ту пору был другой праздник – Святки. И многие старые обряды – весёлые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг ёлки – хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.
Отныне и навсегда этот праздник был закреплён в российском календаре.
В первый день нового года не просто веселились, но и подводили итог ушедшему году, строили планы на будущее. Всё это отражалось в сюжете фейерверочного представления, призванного не столько воздействовать и развивать эстетические чувства зрителей, сколько пропагандировать внешние победы в войне с врагами России и внутренние преобразования.
В новогоднем фейерверке 1702 г., посвящённом первой русской победе над шведами в Северной войне под Эресфером (декабрь 1701 г.), один из сюжетов представлял собой молодую поросль, выраставшую из старого, безжизненного дерева. Это символизировало первую победу России в начавшейся войне со шведами. Дерево с пробивающейся порослью было изображено на фоне спокойного моря и выходящего из-за горизонта солнца с очень символичной надписью: «Надежда возрождается». Это действительно отражало надежду на возрождение величия и славы России. Допетровскую Русь изображали как мёртвое, безжизненное дерево. Здесь имело место как отрицание предшествовавшей истории России, так и признание преемственности, ведь новая, молодая поросль росла из того самого мёртвого дерева. Во время Северной войны почти каждый Новый год отмечали прежде всего как очередную военную победу. Кроме ставшего уже традиционным фейерверка, демонстрировали транспаранты, которые объясняли смысл и значение происшедших событий. Особенно пышно и торжественно встречали 1710-й год, когда отмечали Полтавскую победу 1709 г.
Созданные Петром I традиции новогоднего праздника сохранялись и при его преемниках. В XVIII в., который называли «веком женского правления», при императрицах Екатерине I, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екатерине II придворные нравы постепенно приобретали утончённость и изящество. Парады и фейерверки, прославлявшие военные победы, сохранялись, но появились и музыкальные вечера. Балы и маскарады отличались красочностью, утончённостью и изобретательностью.
По укоренившейся в веках традиции 1 января проводили в церквах. В этот день церковь отмечает день памяти святого Василия Великого, поэтому Новый год назывался в народе еще Василь-день. Вечер перед Новым годом назывался Васильевым вечером. Чтобы узнать, каким будет наступающий год для семьи, рано утром со специальными приговорами варили «Васильеву кашу». Если полон горшок – хорошо. Если каша полезла из горшка – жди беды всему дому. Если треснул горшок – будут немалые порухи в хозяйстве. Если приметы счастливые – съедали кашу дочиста. Если плохие – выбрасывали вместе с горшком. Этот вечер также называли Колядою или Овсенем, Усенем, Говсенем, Таусенем. Было принято ходить по домам и поздравлять хозяев песнями, разбрасывая различные зёрна, чаще овса, и желая богатого урожая в новом году.
Днём на городских площадях устраивали конские бега. После бегов принято было ходить по соседям на «здорованье», поздравлять и желать счастья. Гостей угощали чем-то сытным, мясным или сдобным, нередко варили наваристые «святочные щи со свининой». Гости славили хозяев. Когда по городским квартирам ходили целыми компаниями, то за стол не садились, а угощенье забирали в мешки (носивший их назывался мехоношей), и лишь обойдя всех, молодёжь высыпала еду из мешков и закусывала.
Читать дальше