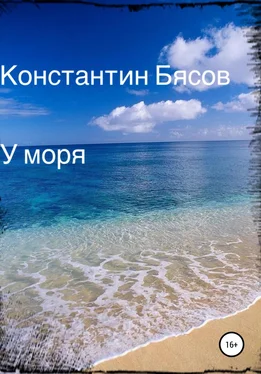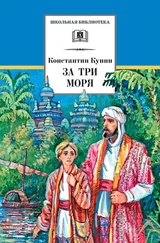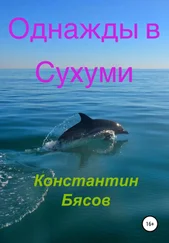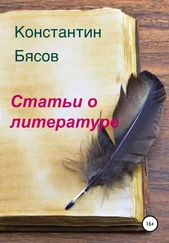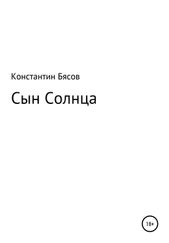Одноклассники из группы горячего шоколада завидовали нам – батонщикам, а мы – им. Хотя этим бедняжкам приходилось ухищряться, придумывая способы поедания сладкой жижи без причинения вреда конвейеру и, что не менее важно – без донесения своей слюны и прочей грязи в продукт, который ответственное советское производство готовит социалистическому потребителю.
Ну а мы же просто жрали готовые конфеты. Хотя горячий шоколад выглядел привлекательнее.
Не то чтобы они очень вкусные, эти батончики. Просто мы почти всегда были голодными, как и все остальные обычные советские дети. Даже с собой прихватили вкусностей, заполнив ими ранцы.
Ещё был консервный завод, который тоже недалеко, примерно километр в глубь Старого района. Не рыба, не мясо – фрукты, конечно же. Что же ещё можно и нужно распихивать по банкам с водой и сахаром в субтропическом регионе, богатом абрикосами, персиками, айвой, алычой, гранатом, инжиром, кизилом, мушмулой, фейхоа и многими другими дарами деревьев.
Эта фабрика потрясла наши детские умы сложностью и гибкостью советской инженерной мысли. Специальные приспособления выдавливали из фруктов сердцевину с костяшками, вместе с последними отправляя в отходную корзину добрую половину самой сладкой и нежной части плода. Значительно похудевший некогда красивый и зрелый персик или абрикос погружался в трехлитровую стеклянную банку.
Вот, собственно, все два этапа консервного ряда, к которым нас допустили. Те помещения завода, где фрукты омывают и очищают, а также многие другие, как сказали педагоги, не так интересны школьникам.
***
Саша отвёл меня в сторонку и настоятельно сказал:
– Давай, действуй, что ты мямлишь? Скажи ей, что любишь, начнёте встречаться. Ведь любишь? – Он посмотрел на меня испытующе.
Первое, что пришло мне в голову, это послать Сашу куда подальше, порекомендовать захлопнуть свою помойную яму и не вмешиваться в чужие дела. Но, слава богу, вспомнил, что Алена знакома с ним намного дольше, чем со мной и относится с уважением. Вряд ли она заценит агрессию. Так что терпи, солдат, не то козлёночком станешь.
– Да, люблю.
– Скажи ей, а то она подумает, что тебе от неё только одно нужно.
Тут я немного смутился, мол, ничего подобного мне от Алёны не надо. Разумеется, речь шла о сексе. Но я ещё не знал, каково это, да и не думал о близости с женщиной основательно (хотя, совсем недавно, в конце апреля, я узнал кое-что важное, но об этом потом). Все представления о нем начинались и заканчивались коротенькими эротическими сценами из импортного кино (которые мы смотрели в видеосалонах и раз в неделю по грузинскому телеканалу в передаче «Иллюзион»), где мужчина и женщина сначала обнимались, целовались, ласкались, а потом страстно терлись друг о друга. Сами по себе данные эпизоды почти ничего не выражали и не объясняли, но поведение взрослых, если вдруг мы совместно созерцали фильм с подобными действами, говорило нам – детям, что «это» крайне важно, поскольку зрелые люди сильно смущаются при виде обнаженок, стараются переключить канал, просят не смотреть, выйти или сами ретируются.
В советском же искусстве, как известно, секса не было. Даже несмотря на мегапопулярность «Маленькой Веры» и «Интердевочки», где практически впервые в истории нашей страны на экранах показали неожиданно откровенные интимные сцены, это все еще рассматривалось как случайное исключение из общего правила. Эти два фильма, а также нигилистский «Курьер» плюс квазиреставрационно-ностальгические «Гардемарины, вперёд!» и неожиданно жёсткий криминальный боевик «Асса» в гораздо большей степени повлияли в ином контексте – они попросту ознаменовали эпоху заката социалистического реализма, инициировав его агонию и быстро ускорив.
Впрочем, все эти фильмы можно было бы отбросить в сторону, так как в деле уничтожения материалистического диалектизма намного больше сделала всего-навсего одна абсурдно-веселая песня «Мальчик Бананан» из указанного детектива. Это вам совсем не примитивно-гиперреалистичный хит «Как прекрасен этот мир» той же группы – «Веселых ребят». Это был удар шокирующей силы по затхлым, протухшим и закостенелым мозгам советского люда, сравнимый с нокаутом Мохаммеда Али казалось бы неуязвимого Джорджа Формана, с Хиросимой и Нагасаки, с татаро-монгольской саранчой, обглодавшей почти всю Евразию. И промысленно, что примерно в то же время читающая публика массово потянулась в литературе в сторону магического реализма – к «Мастеру и Маргарите», «Ста годам одиночества» и т.п., в общем, ко всему тому, что разрушало укоренившиеся советские стереотипы.
Читать дальше