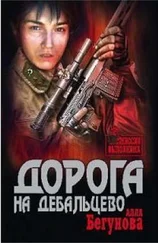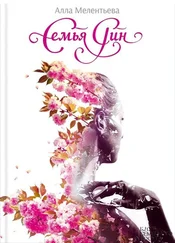– Может, спрячем это всё куда-нибудь подальше или лучше сожжём? – Вовка ткнул носком ботинка в половинку гармони, которая лежала ближе к нему.
– Не, жечь сейчас нельзя – огонь, дым увидят, – здраво рассудил брат.
– Значит спрячем. Пока у тебя, твой дом ближе. Может, отец не спохватится? – без особой надежды успокаивал себя Вовка.
– Может и правда, не спохватится. – поддакнул Гоша. – А и спохватится, скажешь, может, воры украли.
– Точно! – оживился Вовка. – Если гармонь не найдут, так на нас не подумают. Может и правда, воры. Пришли и украли. Гармонь-то дорогая… – и тихо добавил. – Была.
Мальчишки закинули ошмётки гармони в коляску, кое-как прикрыли одеяльцем и, уже никуда не торопясь, потолкали горестную поклажу ближе к дому. Всю дорогу они молчали, отдавшись невесёлым мыслям, и лишь изредка тяжело вздыхали.
Мамы дома не было, она ещё не вернулась с работы. Брат по-быстренькому скидал половинки гармони в голбец и, строго посмотрев на меня, поднёс палец к губам, давая понять, чтоб я хранила тайну. Я кивнула. Вовка убежал домой, а мы остались ждать. Обычно мама поздно возвращалась с работы, и меня спать укладывал брат. Но сегодня она вернулась раньше – в клубе отменили репетицию. Мы даже успели попить чаю все вместе, что бывало очень редко.
За окнами темнело. Вечер плавно перетекал в ночь. Пора укладываться спать.
Мы с братом так старательно вели себя «как обычно», что вызвали у мамы смутные подозрения:
– Да что с вами сегодня? Какие-то вы необычные.
– Обычные! Обычные! – закричали мы наперебой, устроив привычный гвалт, чем окончательно успокоили маму.
– Ну, значит спать. Все по кроватям! – скомандовала она и пошла расстилать постели.
Мама уложила меня в кроватку. Я прихватила с собой из коляски несколько серебристых пластинок – даже на ночь не могла расстаться с ними, так они мне понравились.
– Лялька, что это у тебя? – мама рассматривала на своей ладони несколько блестящих прямоугольничков. – Ты где это взяла?
И тут в окошко громко и требовательно постучали. Мама выглянула за занавеску и побежала открывать дверь.
В дом вошли дядя Кеша в кое-как накинутом на одно плечо пиджаке и Вовка, исподлобья озирающийся по сторонам.
– Константиновна, – обратился дядя Кеша к маме, – гармонь пропала. Люди видели, как мой с твоим парнем днём у нашей избы крутились. Так гармонь не у вас?
У мамы брови удивлённо поползли вверх:
– С чего вдруг ей здесь ока… – мама не закончила фразу, закусив губу, разжала ладонь. На ладошке поблёскивали мои музыкальные пластиночки.
Охнув, Вовкин отец опустился на лавку. Объяснять тут было уже нечего, но Вовка и Гоша, перекрикивая друг друга, затараторили, торопясь высказать всё, что произошло: и про гармонь, и про душу, и что вернули бы сразу, и что случайно так вышло, и про пластинки, и главное про душу, про душу. Брат слазал в голбец, достал то, что ещё с утра было целым прекрасным инструментом, и оба горе-гармониста встали перед дядей Кешей, склонив головы и смиренно ожидая справедливой порки.
– Отдала Богу душу моя гармонь… – дрогнувшим голосом сказал Вовкин отец.
Драть пацанов на ночь глядя Дядя Кеша не стал. Они с Вовкой молча собрали с пола половинки гармони и собрались уходить. Мама протянула им пластинки, которые выгребла из коляски, но дядя Кеша только рукой махнул, повернулся и вышел. Вовка быстро переглянулся с Гошей, хотел что-то сказать, но передумал и вышел вслед за отцом.
Выдрали мальчишек или нет, я не помню, мама не знает, а сами парни не говорят. Их с тех пор у нас в деревне гармонистами прозвали.
Дядя Кеша ездил куда-то далеко и привёз новую гармонь, люди говорят лучше прежней. И про душу опять говорят. Только, я думаю, не в гармони она, эта душа, а в дяде Кеше, потому как в его руках любая гармонь поёт так, что заслушаешься.

Сколько себя помню, а это едва ли не с рождения (да-да, и такое бывает), так вот сколько себя помню, я всегда боялась… травы. Обычной зелёной травы. Особенно тимофеевки – просто в ужас повергала. Повезёт меня мама, бывало, в коляске через поле, а я лежу, в небо глазёнками таращусь. Голубое, с белоснежными облаками. Нет-нет, да и солнце покажется. Щурюсь, улыбаюсь. Коляска покачивается. Красота. И вдруг, над краями коляски зашуршат, закачаются страшные огромные «червяки» – головки созревшей тимофеевки. Вот ужас-то! Тут я и начинала орать, на одной ноте, без остановки и передыху. Так и орала, пока поле не закончится и не пропадут с глаз моих долой страшные пугалки тимофеевские. Глотка у меня была лужёная – орала я громко, далеко слыхать. Вся деревня знала: опять Ляльку не с кем оставить, мать с собой на дойку потащила.
Читать дальше
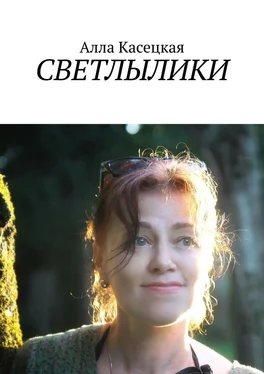


![Алла Кучук - Серебряные Листья [СИ]](/books/31321/alla-kuchuk-serebryanye-listya-si-thumb.webp)