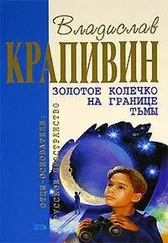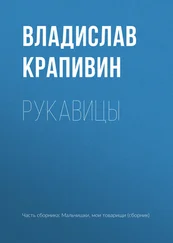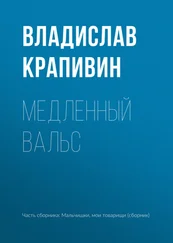От цирковой темы разговор переходил на другое. Иногда дядю Борю просили рассказать какую-нибудь историю. И он, посмеиваясь, рассказывал о том, как в детстве с друзьями напугал вредную соседку: они выдолбили тыкву, намалевали на ней рожу, прорезали глаза и зубастую пасть, вставили внутрь свечку и поднесли такого "гостя" к соседкиному окну. Или о том, как он катался в тележке, запряженной громадным воздушным змеем. Или как ехидная коза съела его папку с документами, когда он служил в страховой конторе и ходил по дворам, переписывая хозяйственные строения...
Но иногда дядя Боря говорил о серьезных вещах. На пример, каким городом станет Тюмень в будущем. Он работал в плановом отделе какой-то строительной организации, и через него "проходили" многие чертежи и проекты.
Проекты были фантастичны. Оказывается, на нашей улице уже запрещено строить дома ниже двух этажей. В центре города будет возведено множество кирпичных зданий. А за рекой скоро построят - невозможно поверить! шестиэтажную больницу. В городе, где верхом монументальности было несколько четырехэтажных домов, это казалось непостижимым. И мы притихали, пораженные грядущим размахом цивилизации... А дядя Боря щепал смолистую лучину и подбрасывал под кастрюлю. Кастрюля начинала булькать, крышка на ней подпрыгивала...
Но еще больше я любил зимние вечера, когда мы топили голландку.
Круглая, обитая черным железом печка стояла посреди флигеля и выходила на четыре стороны: половиной - в две комнаты Покрасовых, четвертушкой - к Шалимовым и еще четвертушкой - в дяди Борину каморку. Дверца находилась здесь, у нас с дядей Борей. Тяжелая, с выпуклым, узорным литьем. Чтобы открыть ее, нужно было открутить могучий винт и убрать чугунный засов. За тяжелой дверцей была еще одна - тонкая, с овальным отверстием - поддувалом.
Дрова в голландке разгорались стремительно. Печка начинала празднично гудеть, как топка на веселом пароходе (так мне казалось). Прижимаясь лицом к изогнутым прутьям кроватной спинки, я смотрел, как мечется в глазке поддувала желто-белое пламя. Тонкая дверца мелко дрожала. Не выдержав вибрации, круглый лепесток заслонки срывался и закрывал поддувало. Тогда дядя Боря слегка отодвигал дверцу. Гул огня переходил в мурлыканье, оранжевый свет вырывался из печки и плясал на цирковой афише, где фокусник Мартин Марчес выкидывал из рукавов цветные ленты. Ленты выписывали в воздухе две буквы М...
Мурлыканье печки убаюкивало, и я не сопротивлялся дреме. Спешить было некуда, я ночевал у дяди Бори. Но тут с шумом являлся Володя Шалимов студент лесного техникума - со своими приятелями. Приносили заиндевевшую на морозе гитару.
Меня деликатно выпроваживали с кровати, на ней рассаживались гости. Вваливался Вовка Покрасов с охапкой дров: его семейство посылало свою долю для печки.
Мы с Вовкой устраивались у трехногого стола и лениво расставляли на картонной доске шашки. У потолка повисали слои табачного дыма. Начинала рокотать гитара.
Или мне сейчас так помнится, или в самом деле все песни были о море и дальних краях...
"Прощайте, скалистые горы..."
"На рейде ночном легла тишина..."
"Ой вы, ночи, матросские ночи..."
"Плещут холодные волны..."
А потом разухабистая:
"В кейптаунском порту с какао на борту "Жанетта" набивала такелаж..."
Может быть, Володя глушил тоску по океанам: из-за сломанной и плохо сросшейся руки он не попал в морское училище-Гитара начинала рокотать тише и печальнее. Это наступало время песни о Диего Вальдесе, которого не пощадила судьба - сделала из вольного бродяги верховного адмирала. Потом на одних басовых струнах звучал тревожный киплинговский марш:
Осторожно, друг: бьют туземцев барабаны
Они нас ищут на тропе войны...
Дядя Боря иногда подпевал, а чаще молча слушал да подбрасывал в печку дрова. (Вот и Лешка Шалимов, Володин брат-пятиклассник, принес полешки). Дядя Боря прикуривал, ухватив желтыми пальцами выпавший на железный лист уголек. Лицо его было неулыбчивым.
Он был в душе поэтом и путешественником, но жизнь получилась не такая. Надо было помогать матери и родственникам, пришлось работать поближе к дому на конторских должностях. Да к тому же не пойдешь в матросы с больным позвоночником. Но дядя Боря никогда не жаловался на судьбу и печальным бывал редко. Пожалуй, только во время песен. Наверно, они напоминали, что он до сих пор не видел моря...
Я ловлю себя на том, что далеко ушел от разговора о Севастополе. Но мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по этому городу. Все это неразрывно: комнатка с одним окном, старые ходики, гитара, афиша на стене, хорошие люди, которые грустили о море. И книга, которую я стащил у Лешки Шалимова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу