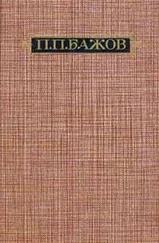При таких почестях начисто забыл свою Зюзельку Далмат. И Маруня теперь не была для него никаким подареньем судьбы, а промашкой его тогдашней серости. Так он и отписал ей, а деньги на пропитание своему стряпчему приказал неукоснительно высылать.
* * *
К полета годам Далмат был, как небо, - весь медален и регален. И, как полагается, свой дворец. А при дворце всякое разное население. Всех сортов и родов. Разных годов и цветов. От рыжих до смолевых. Ему что? Высеченный им падишах хоть табун разнокожих рабынек пригонит.
Пир горой, гора пиром. Где день, где ночь, но всегда знал, что его славовластию не будет конца. А слава ни у кого не спрашивает, когда ей начаться, когда кончиться.
Далматова слава ушла давным-давно-давнешенько, а его, по разбежной привычности, все еще светилом величали. Восхваляли совсем никудышную лепню. Вровень с бессмертными ваятелями ставили. А становление-то это ставленным оказалось, выдуманным. Выдуманным теми, кого он так сверкательно изолгал. Кого изукрасил до переслащенной отвратности. Кого возвеличил редкостным чародейством своего лжительства.
А потом, когда это чародейство скудеть начало, все в преславном Далмате препостыдного околпата увидели. Лжа тоже свою черту знает. Переступи ее только раз, один маленький разок, и рухнет все солганное тобой. Рухнет, как бы искусно и даровито ни притворялось оно правдой, как бы до этого ни сияло ею в обманутых доверчивых глазах.
Оглянувшись, увидел себя Далмат с первого вырезанного им в Зюзельке петушка до последнего тупорылого короля. Дурак дураком он в своем малознаемом королевстве слыл, а Далмат его в мудреца переплавил.
Ахнули люди. Зашумел народ. Дворцовые льстецы-лжецы и те скрючились, увидевши тупорылую свинью на фигурном литом троне в лучезарной личине премудрости.
На этом-то королишке и споткнулся Далмат. Переодетым из того королевства сбег. Еле в себя пришел. А придя в себя, понял, куда, в какую безвылазную трясину его фартовая удачливость завела. И запил.
Смертельно запил Далмат. До белой или какого-то другого цвета горячки допился. Может быть - до розовой.
Не долго болел Далмат, но тяжко. Все перебывали у него. И фальшивые их величества в бронзе, и обманные графья-князья, и обогоподобленные ханы-богдыханы, императоры, короли и королята являлись пеше и конно. Являлись гарцующе, пляшуще, ржуще. Каждый на свой голос.
О женских видениях нечего и говорить. Бредились они тоже в своем естестве. Чертовки чертовками. Без лжачих налепок, без усладных прикрас, которые он им ой как венерно попринадбавил. И конечно, графинька прикатила на шестерне. Та самая, которой впервые Далматов резец запродался. С нее же вся лжа началась.
Графинька не один, не два бреда перед ним скелетничала, а потом хохотливой Фартунатой обернулась.
- И-эх! Как я тебя окамзолила, обхохотала. Кто теперь тебя, Далмашка, в твою светлую прежность расхохочет. Выпьем предупокойную чарочку на помин твоей душеньки!
Не выпил Далмат в бреду ее чары. Дедовская кровь в нем верх над смертным концом взяла.
Выжил!
* * *
Богатство Далмата ушло как майский туман. Бесславие пришло как злое похмелье. Продал Далмат остатнее и седым поехал умирать в родную деревню. Совесть его туда позвала.
Вошел Далмат в свой дом и оказался дома. Признал отца в колыбельке оставленный сын. Дедом назвали его незнаемые им внуки. А Маруня еще в хорошей поре была. Не в молодой, но и не в старой.
- Разоблакайся, Далмат, - сказала она. - Обед стынет. Долгонько ты что-то...
- Да, - промолвил Далмат, - подзадержался малость.
На этом и кончился разговор о долгой отлучке, о потерянном счастье, об его сгубленных годах.
Хорошее молчание другой раз нужнее большого говорения.
В Зюзельке его тоже никто и ни о чем не расспрашивал. Потому что там жили сочувственные, добрые люди. Они все и про все знали, но не хотели перемывать знаемое. Ушлого этим не вернешь. Но не все ушло.
Неуходимое не уходит. Незабываемое не забывается. Яркое не меркнет.
Беломраморную "кормящую мать" в родном его городе под стеклом берегли. Глядеть на нее приезжали из дальних земель искусники и пониматели каменного сечения. И резного деда Прохора тоже знатно омузеили, как и царевну на шелку. А комолой Красульке совсем неслыханно завидная доля выпала. Тысячами ее отливали для своих и чужедальних городов. Можно сказать, что Далматова коровка на всем белом свете паслась.
Людям хотелось видеть и знать Далмата тем, кем он был, каким зацветать начал. Таким его и увидели в Зюзельке. Просветленным, покаянным, сокрушающимся.
Читать дальше